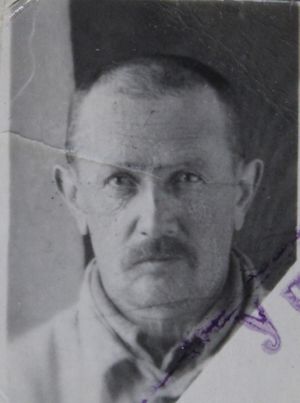Оксман Семен Андреевич (1896)
- Дата рождения: 1896 г.
- Варианты ФИО: Величко-Оксман Семен Андреевич
- Место рождения: г. Пинск
- Пол: мужчина
- Национальность: еврей
- Гражданство (подданство): СССР
- Социальное происхождение: из рабочих
- Образование: низшее
- Профессия / место работы: плановик, трест "Шпалопрокат" (1938); инструментальщик (1949)
- Место проживания: г. Москва, Марьина Роща, 5-й пр-д, д. 33, кв. 14 (1938); Владимирская обл. (1949)
- Партийность: беспартийный, ВКП(б) с 1917 по 1938, исключен за троцкизм
- Дата смерти: 1973 г.
- Где и кем арестован: Бауманское р/о УГБ УНКВД МО
- Дата ареста: 30 апреля 1938 г.
- Обвинение: контрреволюционная агитация, бывший троцкист
- Осуждение: 19 сентября 1938 г.
- Осудивший орган: Особое совещание при НКВД СССР
- Приговор: 5 лет ИТЛ
- Место отбывания: Севвостлаг; Маглаг
- Дата освобождения: 7 августа 1946 г.
- Дата реабилитации: 7 мая 1955 г.
- Реабилитирующий орган: Верховный суд СССР
- Комментарий к аресту: задержан в лагере до конца войны
- Где и кем арестован: УМГБ по Владимирской обл.
- Дата ареста: 17 января 1949 г.
- Обвинение: по обвинению 1938 года
- Осудивший орган: Особое совещание при МГБ СССР
- Статья: 58-10-11
- Приговор: ссылка на поселение
- Архивное дело: ГА РФ. Д. П-27677 (1938)
- Источники данных: ГА РФ, архивно-следственное дело
Биография
Семену Андреевичу я племянник. От него остались собственные воспоминания о пережитом. На мой взгляд, они интересны и полезны даже для тех, кому ненавистны «большевики». К воспоминаниям есть примечание:
«Примечание сына:
Отец работал над этими воспоминаниями несколько лет, почти до конца жизни. Даже после первоначальных двух-трех машинописных экземпляров, которые для него сделала платная машинистка, он что-то видоизменял, что-то добавлял, что-то отбрасывал, никому не показывая, что он пишет. Перед смертью он распределил каждый экземпляр (их было всего несколько, в том числе и вновь напечатанные после его добавлений и поправок) по отдельности между родственниками. Данный экземпляр находится у меня, и я привожу его полностью без каких-либо изменений, кроме отдельных самых очевидных орфографических ошибок и опечаток.Перед собственным уходом я счел своим долгом сохранить эти воспоминания отца, независимо от того, какова будет их дальнейшая судьба.
В.С.Величко. 15 сентября 2007 г.»
Сын С.А. (Вадим Семенович Величко) ушел из жизни в декабре 2017 года. Теперь указанная судьба зависит от меня. Могу предложить текст воспоминаний «Открытому списку», если это не противоречит принципам его существования и развития.
В любом случае, если я помещу здесь этот текст, то приведу его с собственными комментариями и предварю его своим предисловием. Вот это предисловие:
Предисловие публикатора
Дядя Сема (1896-1973), родной брат моего отца, оставил солидную машинописную книгу о своей жизни под названием “Пути-дороги рядового большевика”. Для украшения тут же дан эпиграф: “Когда выжмешь сухой факт, порой капнет слеза или кровь” (автор этой метафоры не указан). Читать книгу трудновато по многим причинам - от не слишком качественного слога до горделивого идеологического захлеба, от духа непререкаемости любых авторских суждений до постоянно навязываемой читателю позы автора-скромника (мол, всего лишь “рядового”), от ограниченной политизированности мировосприятия до самоупоения этой ограниченностью. Однако подзаголовком своей книги (“Факты и только факты”) сам же автор, очевидно, хотевший лишь подчеркнуть, что он ничего не придумал, невольно подсказывает читателю,что не надо обращать особое внимание на всякие словеса оценочного содержания, а есть смысл просто узнавать о разных фактах, жизненных ситуациях.
Дядя Сема был довольно твердолобым ленинцем, и было бы бессмысленно ожидать, что он, до своих 40 лет взраставший в атмосфере обожествления пролетарски-классового сознания, откажет себе в удовольствии (тем более на старости лет, когда он писал эту книгу) выполнять святую обязанность партийца - поучать всех большевистской демагогией. Однако, плюя на эту демагогию с сегодняшней высокой колокольни и осуждая революци-онеров за те страдания, которые они принесли массе людей, не ангажированных большевизмом (чему довольно много примеров в рассматриваемой книге), нельзя забывать, что и классу “капиталистов”, и буржуазному общественному строю, борьбе с которыми дядя Сема отдавал свою жизнь, соображения человеколюбия и забота о благополучии миллионов божьих тварей были чужды не в меньшей степени. Социально ориентированных моделей демократии, опирающихся на эффективные экономические механизмы, тогда еще не существовало. Но зато уже давно витала идея социального равенства, хитроумно совмещенная с утопической мечтой о возможности организовать такие механизмы через “диктатуру пролетариата”. Надо ли удивляться тому, что в условиях архаичного государственного устройства, не подававшего сколь-либо существенных признаков отказа от деспотических методов управления вплоть до марта 1917 года,да еще при уставшем от постоянного прозябания,но падком до радикальных вероучений народе, большевикам удалось посредством означенной красивой утопии оболванить часть этого народа - таких людей, как выходец из еврейской бедноты, немного прикоснувшийся к грамоте и к чувству пролетарской солидарности, юный токарь Семен Оксман?
Автор излагает события своей жизни как бы иллюстрируя официальную “Историю КПСС”: тяжелая жизнь народа при царе и капиталистах, рост классового сознания рабочих, революция и гражданская война, строительство нового общества, “измена” Сталина, восстановление ленинских норм. Публикатор решил немного перекомпоновать книжку, нарушая хронологию, но, как ему кажется, оттеняя истинную драматургию судьбы автора. Шесть с половиной главок,охватывающих четыре года революции, даются с самого начала. Конечно, их содержание не очень увлекательно,потому что лишено оттенка непосредственности, непредвзятого созерцания того, что происходит вокруг автора. Но все-таки это прямое историческое свидетельство, пусть хоть и сильно субъективизированное, размытое временем и замусоренное шелухой мировоззренческого пристрастия очевидца и “рядового” участника событий. Кроме того, это, как ни суди, главная тема в симфонии данной жизни. После нее даются пять главок, относящихся к годам юности автора. Его активное участие во всей последующей исторической авантюре логически вытекает из этих его “университетов”.
Данные воспоминания изобличают их автора как истинного “большевика”, т.е. человека, способного быть одухотворенным только борьбой. Как следует из его жизнеописания, про целых 16 лет своего постреволюционного мирного существования (с 1920 по 1936 год) дяде Семе по существу ничего не захотелось сказать, кроме того, что он являлся все это время “партийным функционером” на разных постах. Естественно, вожди, озабоченные постоянной кровавой грызней за верховную власть, использовали массу активистов революции как своих ставленников и на мирном фронте, чтобы от своего имени как-то налаживать в стране большевистскую пародию на социализм, одновременно держа этих сошек-начальничков в жесткой дисциплинарно-идеологической узде. Дурман партийного рабства во лжи пропитал души “рядовых бойцов” еще до того, как их начали в массовом порядке изводить физически. Дело даже не в том, что и на старости лет дядя Сема продолжал смаковать всяческие догмы, истинная цена коим нуль (про “политическое доверие”, про долг вести “партийную пропаганду” и пр.). Истинная трагедия заключалась в исчерпанности всего большевистского замысла захватом власти. Основной массе бывших “рядовых”, осуществивших и отстоявших октябрьский переворот, по душе было не растекаться по разным “уклонам” и “оппозициям”, давившимся верховными вождями на корню, а исповедывать единомыслие, подчиняясь уставу своего ордена (пресловутый “принцип демократического централизма”). В итоге это привело к смирению с самообманом и даже почитанию оного как “диалектической” альтернативы самостоянью человеческой личности. Ведь не мог дядя Сема, при его склонности все “обмысливать”, не увидеть в течение всех этих 16 лет ничего, что противоречило бы его исконным понятиям рабочего человека. Но он не захотел ни о чем таком написать, стремясь сохранить в чистоте свою партийную правоверность даже в 70-е годы.
В первом варианте своих записок дядя Сема описывал такой эпизод. На одном из партийных собраний, где он присутствовал, кто-то выступил с какой-то чушью, сказавши при этом, что говорит “от имени партии”. Вопрос обсуждался весьма мелкий ,сугубо местного значения. Однако, как любитель “красиво” высказаться, дядя Сема решил возразить выступившему в такой форме: “Я не знаю, от имени какой партии вы говорите, но только не от нашей, большевистской”. Дело было в 30-х годах, и вскоре дяде Семе припомнили этот его полемический выверт, обвинив в том, что он якобы призывал к “многопартийности” (это считалось, как известно, смертным грехом в нашей стране). Вполне очевидно, такой факт свидетельствовал лишь о ничтожности непосредственных соратников автора воспоминаний, но никак не мог быть поставлен в вину главному (по мысли, проповедуемой в мемуарах) злодею. Наверное, поэтому в окончательной редакции своих записок дядя Сема решил про этот случай не упоминать. И однажды рассказанный мне эпизод своего общения со Сталиным не включил в свои записки, очевидно, стремясь полностью дистанцироваться от этого “узурпатора”. Эпизод был такой. В начале 30-х годов дядя Сема работал на высокой партдолжности в Сталинграде (на заводе “Баррикады”). Его в числе других подобных вызвали в Кремль на некое совещание, и там Сталин его спросил: “Таварищ Велычко! Скажи-ите, а клопи в ваших рабочих квартирах ест?” Я не запомнил, что ответил ему дядя Сема (возможно, сказал “Бывают” или “Попадаются”, т.к. мнится, что Сталин произнес что-то типа “Плохо, таварищ Велычко”). И про свои перипетии 20-х годов, касающиеся партдискуссий относительно Троцкого и прочих “уклонистов”, дядя Сема ничего не пишет, хотя при его неуемной активности вряд ли там ничего не было, коли его мгновенно исключили из партии в августе 1936 года. А из опубликованного открыто о лагерях упоминает только Алдан-Семенова (“Барельеф на скале”), как будто не было “Ивана Денисовича”, - тоже дань фарисейству эпохи зрелого большевизма (ведь Солженицын в годы писания дядей Семой своего текста был врагом его партии).
Наибольший объем (две трети) текста книги занимает описание жизненной катастрофы одного из многих миллионов, превращенных в навоз для возведения саманной постройки вожделенного ими социализма в азиатской сатрапии. Автор постоянно называет причиной своих 19-летних мытарств по тюрьмам, лагерям и ссылкам “предательство”. Автору ясно, кто и кого предал,- Сталин их, честных и “ни в чем не повинных” большевиков. Но предают всегда в чью-то пользу, а автор нигде не объясняет - кому они были “преданы”. Если оставаться в рамках его трактовки, это, недостающее звено категорически необходимо. И его можно найти. Это наш героический народ, признающий единственную форму общественных отношений: “господин - раб”. И когда его высшие господа цивилизовались до состояния, при котором сочли неловким добивать жалкие остатки изможденных узников большевизма и выпустили их из лагерей, списав все на “культ личности”, среди этих остатков оказалось много таких, кто не то чтобы был способен усомниться в марксизме-ленинизме, но не хотел даже понять, что именно их, как и большинства народа, рабская преданность господам вождям и этому учению, с его святынями - партийной дисциплиной и классово-пролетарским сознанием,свела на-нет благородные порывы их революционной юности. Дядя Сема был из этих многих, и, испытывая естественное сочувствие к тем физическим и моральным страданиям, которые он испытал, невозможно уйти от мысли: ему повезло очутиться среди тех, кого провидение избрало объектом своей кары,а не быть назначенным любимой партией своим “функционером” в карательных органах.
Для облегчения чтения публикатор несколько откорректировал построение фраз исходного текста, но ничего не выбросил и, конечно, не изменил в смысловом аспекте, хотя отношение автора к некоторым описываемым событиям не слишком гармонирует с нынешними взглядами публикатора (высказанными в небольших попутных комментариях).
Главы из машинописной книги С.А.Величко-Оксмана «Пути-дороги рядового большевика»
Глава 6
Всего через несколько дней после того, как стало известно в Киеве о свержении царского правительства, наступил совершенно новый период в моей жизни. Дело в том, что если раньше, как рядовой рабочий, я никак не влиял на деятельность предприятия, то теперь, когда возникали заводские комитеты рабочих, меня избрали в состав такового, а последний избрал меня своим председателем. Эта огромная качественная перемена наступила не случайно. Предыдущие четыре года, о которых по мере своего умения я написал на этих страницах, подготовили меня к тому, что в глазах рабочих я оказался приемлемым для этого совершенно нового дела. Думаю, это время стало новым и для других, кто был избран председателями заводских комитетов в первые дни после Февральской революции. С чего начать нашу работу в этом качестве, подсказывало, главным образом, классовое сознание.
Вскоре на помощь комитетам пришло Правление профессионального союза металлистов. Отлично помню состав киевского Правления. Это были товарищи Е.Г.Горбачев, Р.Ицковский, Н.В.Голубенко1, А.Иванов (арсеналец) и Киселев (тоже из киевского “Арсенала”).
Мне часто доводилось бывать на заседаниях Правления. Оно помещалось в бывшем Дворянском собрании на Крещатике.Главное, и может быть даже единственное, что заполняло работу завкома, это разбор конфликтов, возникавших между рабочими и администрацией завода. Наши решения по этим конфликтам были всегда в пользу рабочих, но их выполнение затягивалось из-за того, что завод принадлежал не отдельному капиталисту. В этом отношении мы находились в несколько ином положении по сравнению с завкомами на тех предприятиях, которые принадлежали частным лицам. Администратор завода, инженер Рыбалко, хотел казаться либеральным, но в то же время оттягивал выполнение решений завкома, ссылаясь на то, что не получал еще согласия от правления земств.
Кроме такой проволочки, администратор (он носил форму “земгусара”2) прибегнул еще к одной провокации. Пользуясь тем, что в составе завкома большинство членов были рабочие, не принадлежавшие тогда ни к каким партиям, этот ставленник земства пытался внушить членам завкома, да и всем рабочим завода, что затяжка в выполнении решений происходит потому, что они приняты под давлением председателя-большевика, т.е. меня. Об этом я говорил в Правлении своего профсоюза, там меня успокаивали и приободряли. Не знаю, как тов.Киселев, но все другие из перечисленных товарищей были большевиками и поэтому они так реагировали на мои сообщения о “делах” в завкоме. Иначе реагировал на мое беспокойство по поводу этих козней мой двоюродный брат. Он неоднократно заводил речь о том, что не следует забывать, что я еврей и что в Киеве надо быть тише травы и ниже воды, помня, что Киев не входит в черту оседлости для евреев, а мои папки с делами (специального помещения для нас на заводе еще не было), да еще и печать завкома, которую он у меня видел, не следует держать у него на квартире.
Я, бывало, растолковывал моему брату, что времена с чертой оседлости не вернутся, но он не очень верил в это, хотя был умен. С умным человеком всегда можно найти путь к взаимному пониманию. Такой путь мы нашли, и я продолжал жить у него на квартире до июня 1917 г. и до этого времени продолжал быть председателем завкома. Кончилось то и другое потому, что в эту пору меня вторично призвали на военную службу. На этот раз меня признали годным и зачислили в 4-ую мотоциклетную команду Румынского фронта. Эта воинская часть была расположена в Одессе, и меня военным порядком отправили туда.
Одесский воинский начальник, к которому я явился, хотел отправить меня в 49-й полк, тоже расположенный тогда в Одессе, но я сослался, что Киевом назначен в другую часть, и добился выполнения этого назначения. Мотоциклетная команда имела свои механические мастерские, где-то на Молдаванке (район Одессы), в которые меня зачислили токарем, но одели в форму солдата. Итак, я опять у станка, работаю опять в Одессе, но живу в казарме. Разница, конечно, большая, ведь без увольнительной записки в город не пойдешь, хотя революция произошла еще в феврале того года. Разница состояла и в том, что по существу я должен был работать так же, как раньше, но бесплатно, и как все солдаты получать грошевое солдатское жалование. По правде сказать, это меня тогда не огорчало. Кормить кормили, одевать одевали, казарма была неплохая, так что с этой стороны все обстояло неплохо. Единственное, что меня будоражило, это то, что я не выполнял такой активной, что называется, общественной работы, как последние полгода в Киеве. Но и этот пробел довольно скоро исчез. Получив увольнительную записку, я, как большевик, прежде всего, отправлялся в городской комитет большевиков. В это время Одесская организация РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия) только-только размежевалась по своим фракциям. Большевистская фракция превратилась в отдельную партию. Ее возглавляли т.т. Хмельницкий и Заславский Петр. Других товарищей я не помню. Я их застал в комитете, помещавшемся на Троицкой улице. Я им рассказал о себе и хотел получить от них нужный инструктаж о том, как себя держать в своей воинской части. Вскоре после этого моего первого посещения городского комитета партии меня избрали членом Солдатского Совета депутатов Одессы от 4-й мотоциклетной команды. Возможно, что это произошло по совету из горкома партии. Так или иначе, я включился в уже привычную для меня общественную деятельность, которой мне недоставало в первые дни моего солдатского положения.
Общее направление деятельности рядового большевика в солдатской шинели мне было ясно и заключалось в том, чтобы всячески содействовать углублению революции, следовательно, поддерживать и распространять лозунг партии - вся власть Советам. Это мне было известно со времени апрельской партийной конференции, когда я еще был в Киеве. Кроме того, на митингах и собраниях, которые проходили в Одессе каждый день, деятельность рядового большевика заключалась в том, чтобы всячески доказывать гибельность призыва к наступлению на фронте. Такой призыв исходил от агитаторов Керенского - эсеров и меньшевиков, которых было немало и в совете рабочих, солдатских и матросских депутатов.
В мотоциклетной команде, в особенности среди офицеров, таких агитаторов было хоть отбавляй. Они не агитировали, но и действовали как начальники. Пользуясь своим положением, они отправляли солдат команды в различные наряды, особенно тех, которые выступали как большевики, или тех, кто сочувствовал и шел за большевиками. Подобная уловка офицеров мне и другим большевикам из команды стала ясна, и мы запротестовали. Нам пригрозили отправкой в пехотную часть - в 49-й запасный полк, но до этого не дошло. В августе корниловщина появилась и в Одессе, и в близлежащих районах. Одесские Советы солдатских и матросских депутатов были настроены против корниловщины. На одном из заседаний этих советов была создана группа из четырех матросов и одного солдата. В нее вошли три матроса с “Синопа”, один матрос с “Алмаза” и один солдат из мотоциклетной команды, каковым был я. Мы получили задание от Советов отправиться в 239-ый запасный полк, в котором корниловщина свила свое контрреволюционное гнездо. Полк был расположен на границе с Румынией - в Рыбнице. Надо было тогдашними способами, т.е. с помощью митингов и собраний ликвидировать это гнездо. Энтузиазм и горение большевиков и тех, кто им сочувствовал, сыграли свою роль. Нам удалось выполнить задание, и корниловское гнездо в полку было уничтожено. Мне лично сильно посчастливилось. После моего выступления на митинге этого полка абсолютное большинство солдат проголосовало против Корнилова. Когда я сходил с трибуны, один из командиров какого-то подразделения прапорщик Петухов, направился ко мне с револьвером в руке. Это заметил руководитель нашей пятерки, матрос с “Синопа”, и тут же разоружил прапорщика, не допустив кровопролития. Нам пришлось захватить этого Петухова в Одессу и отдать в распоряжение Совета солдатских депутатов. Примечательно, что никто за этого рьяного корниловца не заступился. Дальнейшей его судьбой я не интересовался. Вернувшись в мотоциклетную команду, я не столько работал у станка, сколько использовался Советом солдатских депутатов для всякого рода поручений по Одесскому гарнизону. Это не могло нравиться начальнику мастерских штабс-капитану Крылову, а поэтому он приказал мне сдать резцы и измерительный инструмент. По этому же приказу меня отправили в распоряжение одесского военного начальника, а последний распорядился об отправке меня в 49-й пехотный полк. Я не подчинился этому и, сняв погоны с шинели, перестал быть солдатом. Спустя не более недели поступил токарем на табачную фабрику Попова.
Глава 7
В те времена рабочие, в особенности рабочие-металлисты, были заняты не только у станков или тисков и верстаков, но и на учениях в рядах Красной Гвардии и в своих партийных и профсоюзных организациях. На фабрике я в первые же дни включился в работу в большевистской организации и в отряде Красной Гвардии. Тогда среди работавших в разных цехах большевиков было немного. Больше всего их было в механических мастерских, но в целом, несмотря на то, что фабрика насчитывала около 2000 рабочих и работниц, большевиков было не более двадцати человек. Костяк наш состоял из металлистов. Это были т.т. Гольдшмидт С.М., Левин С., Великий, Н.Л.Соболь (он работал в другом цехе), пишущий эти строки и некоторые другие товарищи, фамилии которых я забыл. Все мы состояли в Красной Гвардии. Ее отряд возглавлял слесарь тов.Броэр, считавшийся сотником. Конечно, красногвардейцами на фабрике были не только большевики, но и очень многие сочувствующие нам. Были среди нас и рабочие, считавшие себя анархистами, - это т.т. Полозов, Прусаков, Фиткаленко и др. Те, кто считали себя меньшевиками, не состояли у нас среди фабричных красногвардейцев. В месяцы до Октябрьской Революции на фабрике происходили каждодневные “сражения” между большевиками с одной стороны и меньшевиками и эсерами с другой. Последним приходили на помощь бундовцы и другие националистические группки.Корниловское контрреволюционное выступление многому научило колеблющихся, но меньшевики и эсеры продолжали свою линию поддержки временного правительства Керенского.
Почему-то не запомнился ни один случай, чтобы на собраниях или митингах на фабрике выступал кто-нибудь из руководителей городской большевистской организации. Должно быть, городские руководители переоценивали большевистские силы фабрики. Меньшевистские же руководители города наши фабричные собрания и митинги часто наводняли своим присутствием и выступлениями. Отпор им должны были давать наши же, фабричные большевики, т.е. рядовые рабочие и работницы. Нельзя сказать, что такие оппоненты меньшевиков всегда побеждали, в особенности когда те бравировали своими теоретическими и историческими познаниями. В этом случае мы не могли гладко и основательно опровергнуть их “аргументы”. Но когда вопросы касались практики тех дней, а именно, необходимости для рабочих вооружаться против контрреволюционных сил, меньшевики оказывались крепко биты.
Запомнилось мне выступление главаря одесских меньшевиков Сухова. Он ратовал за то, чтобы рабочие и работницы фабрики не вооружались, так как, по его мнению, временное правительство само оградит страну от контрреволюционных мятежей. После Сухова выступила работница Л.И.Петренко и сказала, что в подавлении корниловского мятежа меньшевики и эсеры не принимали никакого участия, а большевики своей самоотверженной агитацией и служе-нием революции сыграли решающую роль в деле ликвидации корниловского мятежа в августе 1917 года. Заканчивая свое выступление,тов.Петренко, упомянула о том, как рабочий-больше-вик, недавно поступивший на фабрику, участвовал в ликвидации корниловского гнезда. Она имела в виду меня, поэтому я счел нужным выступить и подробно рассказать об этом. Теперь, спустя много лет, не сумею воспроизвести все, что я тогда говорил, да вряд ли это и нужно.Мне оставалось лишь подтвердить, что меньшевики, ни маститые. как Сухов, ни рядовые, никак не проявили себя в 239-м полку, в котором корниловщина пустила солидные корни.Понадобилось, чтобы из Одессы были посланы рядовые матросы и солдаты, большевики или с большевистским настроением, и только с их помощью эти корни были вырваны. Я тогда сказал примерно так. Меньшевики тут утверждают, будто корниловщина возникла из-за большевиков. Если одесские меньшевики будут приходить к нам, чтобы сеять такую ложь, какую мы услышали от Сухова, то мы, рабочие и работницы, в следующий раз не подпустим их к воротам фабрики. По одобрительным возгласам рабочих и работниц явно чувствовалась их солидарность с этим моим заявлением. Рабочим было особенно приятно, что их же человек,рядовой рабочий той фабрики, где они сами работают, разделал “под орех” меньшевистского главаря Одессы.
Мы знали. что борьба за власть рабочих еще впереди и, следовательно, успокаиваться отдельными успехами не следует. В условиях украинской действительности борьба эта была особенно трудна. Ведь в то время возникла националистическая сила, возглавляемая всякими Петлюрами, Виниченками и прочими “самостийниками”. Они использовали положительное стремление украинских масс к национальной независимости и под этим флагом развивали шо-винизм, как известно, всегда идущий против классовой солидарности. Надо сказать, что именно из-за этого в Одессе (как и на всей Украине) победа рабочего класса, которая наступила в России 7 ноября (25 октября старого стиля) 1917 года, была ото-двинута до января 1918 года.
В этих записках я не ставлю своей целью анализировать причины, приведшие к тому, что лишь спустя три месяца после Октябрьской революции в Одессе была установлена Советская власть. Однако бесспорно, что одна из причин та, что “самостийники” всячески препятствовали ее установлению. Они оказались главными виновниками кровавых стычек в декабре 1917 г. (тогда погиб начальник штаба Красной Гвардии М.Кангун, о котором я писал раньше ) и боев на улицах Одессы в январе 1918 г. Рабочие и работницы фабрики Попова во главе с большевиками активно участвовали в этих битвах. Задержка борьбы за власть Советов свидетельствовала о тех дополнительных трудностях, которые были перед большевиками. Тогдашние Советы рабочих,солдатских и матросских депутатов, да и первый состав Румчерода (так называлась организация, объединившая воинские части Одессы и Румынского фронта) не нацеливали рабочих Одессы на то, чтобы взять власть в свои руки одновременно с Петроградом и Москвой. Лишь второй состав Румчерода, образовавшийся в начале декабря 1917 года, действовал под руководством большевиков. Председателем его был большевик тов.Юдовский. Этот состав стал нацеливать рабочих на взятие власти. Предвидя, что силами Центральной Рады будет навязана вооруженная борьба, большевистский Румчерод организовал вооружение рабочих заводов и фабрик.
Что-нибудь в начале января 1918 года мне, в числе других рабочих фабрики, довелось привезти на грузовике винтовки и патроны. От Румчерода этот ценный груз сопровождал тов. Жмудский. Желающих вооружиться было столько, что привезенных нескольких десятков винто-вок для всех не хватило, даже несмотря на то, что красногвардейцы фабрики уже имели к тому времени винтовки от штаба Красной Гвардии.
До 15 января оружие использовалось для того, чтобы люди обучались владеть им. Мес-том хранения винтовок и патронов было помещение фабричного комитета (в первом этаже воз-ле ворот с Малой Арнаутской улицы). В помещении фабкома день и ночь кипела жизнь. Дни летели быстро. Тут и повседневная работа по разбору конфликтов с администрацией фабрики,тут же и обучение тому, как правильно разобрать и собрать затвор винтовки. Наряду с этим - споры между анархистами и большевиками, так сказать, “идейные споры”. Для споров относительно обстановки в городе было много поводов. Они кончились, так как в ночь на 15 января бой за власть Советов начался.
Отряд красногвардейцев из рабочих и работниц по указанию Александровского района, на территории которого находилась фабрика, был направлен на Пироговскую улицу к штабу Одесского военного округа для разоружения офицеров Центральной Рады. Мы и не предполагали, что, кроме выполнения этого боевого задания, нашему отряду придется еще сражаться целых четыре дня на улицах города, главным образом. в районе фабрики и пассажирского вокзала. Активность “табачников” (так называли нас в городе) была известна и нашим врагам. Они поэтому особенно ополчились против нас и наседали на фабрику. В бою с петлюровцами был убит наш товарищ Великий, слесарь мастерских фабрики. Особенно ожесточенно проходила борьба с гайдамаками, засевшими в самом здании вокзала и вокруг него. Красногвардейцам крепко помогли моряки,и совместными силами мы разгромили петлюровцев,которые бросались в рукопашную борьбу у сквера около вокзала. 18-го января 1918 г. борьба в городе закончилась нашей победой, и власть перешла в руки Советов.
Не могу не вспомнить эпизод, происшедший в те дни со мной лично. Продвигаясь вместе с другими красногвардейцами, я проходил мимо дома, в котором жили мои родители. Хотя железные ворота были на замке, я при помощи 2-3-х товарищей пробрался во двор, и мы зашли к моим. Жильцы дома, находившиеся во дворе, сначала испугались, но, узнав меня, успокоились, а моя мать, разрыдавшись у меня на груди, тут же с материнским умилением сказала: “Иди, сынок, продолжай сражаться за то, чтобы и нам хоть немного больше досталось в жизни. Ведь большевики этого хотят, разве не так?” Я крепко поцеловал мою бедную мать за ее добрые слова и ответил ей, что именно этого хотят большевики. И мы поспешили на соединение с нашим отрядом красногвардейцев. 26 июля 1966 г. я слушал передачу по 1-й программе радио. В этой передаче мать героя-революционера на Кубе разрешает сыну идти на сражение за дело социализма и говорит ему: “Иди, сын мой, иди”. От отвечает ей: “Спасибо”. Вот и мне моя мать такое же сказала в январские дни 1918 г., когда мы сражались за социализм - за дело трудового народа.
По окончании уличных боев в городе установилось относительное спокойствие. Завоеванная Советская власть нуждалась в укреплении и на внешнем фронте, ибо против нее ополчились враги. В непосредственной близости к Одессе Бессарабия была захвачена белорумынами в союзе с царским генералом Щербачевым. Он командовал тогда 9-й царской армией,располагавшейся в том районе. Это обстоятельство вызвало необходимость сосредоточить силы красногвардейцев после победы на улицах Одессы на внешнем фронте - у берегов Днестра.
Спустя 5-6 дней многие из одесских красногвардейцев отправились в Тирасполь. В их числе были и наши “табачники”. Не помню, кому принадлежала инициатива организоваться в отряд (ведь Красной Армии еще не было), но мы вошли в этот отряд и дали ему имя героя- большевика Рошаля. Как известно, тов.Рошаль был послан В.И.Лениным на румынский фронт в качестве комиссара Советской России и погиб от руки царского генерала Щербачева. Этот факт и подсказал нам мысль назвать наш отряд именем одного из первых большевистских комиссаров.
В состав отряда помимо нас, рабочих с фабрики Попова (т.т.Прусакова, Шелудко, Зямы Гольдшмидта и автора этих строк), вошли и другие товарищи. Фамилии некоторых из них остались в памяти - это реэмигранты: Мекель, Либерман, Беркович, которые считали себя анархистами, но в формировании отряда принимали организованное участие и были дисциплинированы. Во всяком случае за все время стоянки в Тирасполе не могу припомнить каких-либо анархистских казусов. Возможно, это следует объяснить тем, что нас, большевиков, в отряде было значительно больше, и, кроме того, рядом с нами стоял отряд под командованием тов.Котовского.
Вскоре после формирования мы приняли первый бой с белыми. В этом бою мы потеряли трех человек убитыми и восемь человек ранеными. Среди последних был тов.Беркович, один их анархистов. Он был тяжело ранен и, после того как его вынесли из боя, тут же умер. Почему-то отряд решил хоронить его в Одессе. Должно быть, это решение было принято по инициативе анархистов, так мы думали тогда. Фактически захоронение т.Берковича в Одессе произошло по другой причине. Я это установил, занимаясь в ЦГА Советской Армии. В фонде №14 ед.хранения №29, на стр.30 сохранилась просьба родных В.Берковича перевезти его тело в Одессу. Данное мне поручение - отвезти на автомашине в Одессу труп нашего товарища - было, таким образом, ответом на эту просьбу.
По прибытии обратно в Тирасполь я уже не застал свой отряд, так как все бойцы были направлены в окопы возле села Слободзея. Немедленно туда отправился и я.
Должно быть, в конце марта 1918 г. наши советские отряды начали отступать как из Бессарабии, так и с Украины из-за предательской договоренности Петлюры с вильгельмовской Германией.
В 1971 г. я ехал на автомашине из гор.Дубоссары, где был по приглашению РК КПСС, в Одессу. Дорога шла через Тирасполь. Как Тирасполь, так и дорога от него до Одессы отличались от того, что я видел в 1918 году, как небо от земли. Может быть, о моей поездке из Москвы в Дубоссары в 1971 г. напишу в другой раз. Германо-австрийские полчища начали оккупировать Украину, двигаясь, главным образом, по железнодорожным магистралям. Наши силы были значительно слабее вражеских. На помощь регулярной армии оккупантов пришли и воинские соединения, выступавшие под флагом украинских буржуазных националистов. Несмотря на неравенство сил, мы отступали с боями вглубь Украины и всячески добивались организованности в своих рядах. Это позволило нам добраться до станции Новоукраинка, в шестидесяти километрах от тогдашнего Елисаветграда (ныне Кировограда). Здесь в неравном бою с огромными силами германских войск наш отряд был разбит, и небольшие остатки его рассеялись в разные стороны. Для меня связь с отрядом им.Рошаля после боя под Новоукраинкой прервалась, так как я был в этом бою контужен (последствия контузии ощущаю до сих пор в левой части головы). С большим трудом после долгих переходов из села в село, которые длились полтора-два месяца, добрался я до Одессы. Все это время я неустанно думал о том, как бы найти способ участвовать в борьбе с оккупантами и установившейся под их охраной ненавистной буржуазной властью. Осуществить свою думку, т.е. включиться, наконец, в эту борьбу, мне удалось лишь после того как вновь начал работать на фабрике, с которой добровольно пошел на войну с белорумынами.
Поступить работать обратно на ту фабрику мне было нелегко. Дело в том, что для администрации фабрики, и в первую очередь для директора ее Стрельцова, не прошел незамеченным факт моих выступлений на митингах и собраниях рабочих и работниц в 1917 году. Со времени выступления против меньшевика Сухова все на фабрике знали, что я принадлежу к большевикам. Стрельцов имел все основания желать, чтобы на его фабрике было как можно меньше большевиков, в особенности более или менее активных. Мне он прямо сказал, что фабрика обойдется теми токарями, которые уже имеются, а если понадобится еще токарь высокой квалификации, то найдут другого, не смутьяна-большевика. Я рассказал об этом членам фабричного комитета, который и настоял на зачислении меня на работу. Стрельцов вынужден был дать согласие вновь принять меня на фабрику (подчеркиваю: не восстановить, а вновь принять).
После полугодичного отсутствия мне показалось, что на фабрике произошли огромные перемены. Так и было в действительности. Как до январских (1918 г.) боев за Советскую власть, так и в дни самих боев, активность рабочих и работниц била ключем. Теперь же на фабрике царили гнет и страх, насаждаемые хозяевами фабрики и оккупантами. Большевистские силы были разрознены. Некоторые т.т. большевики были на фронтах (Гольдшмидт З., Шелудко А.). Оставшиеся на фабрике (Соболь, Левин и др.) не были организационно связаны воедино - большевики были, а коллектив отсутствовал. Городское большевистское ядро, должно быть, не смогло еще уделить этому должное внимание.
Глава 8
Восстановление фабричной большевистской организации началось не раньше мая 1918 года. Решающее влияние на эту нашу работу оказали товарищи, приехавшие в Одессу для руководства как городской, так и всей губернской большевистской организацией.
С нашествием австро-венгерских оккупантов большевики были загнаны в подполье. Товарищи Ян Гамарник, Николай Голубенко, Исаак Крицберг, приехавшие из центра, вместе с местными товарищами Ф.Шатан, Н.Соболем, Ф.Тейтельбаум и другими сделали все возможное, чтобы вновь наш фабричный комитет стал активным большевистским ядром всей городской организации, каковым он был до победы контрреволюции при помощи германских штыков. Мы связались с товарищами по партии, работавшими на других предприятиях города. В их числе были В.Бессонов - от железнодорожников, Роза Черная (Фельдман) - от швейников, Д.Хаскин - от деревообделочников - и другие. Эта связь помогала нам всем,так как от взаимной информации о том, как ведется работа по сплочению рабочих масс для восстановления Советской власти и для повседневной работы при режиме, установленном оккупантами и их “подшефными” украинскими правителями, всякими Скоропадскими и Петлюрами.
Повседневная борьба рабочих против фабрикантов и заводчиков велась испытанным путем - забастовками. Для руководства стачками рабочие обращались не столько в профессио-нальную организацию Одессы - “центропроф”, сколько в большевистские партийные комитеты, к которым находили путь, хотя они были в подполье.Объяснялось это тем, что в “центропрофе” засели меньшевики и эсеры, которые не поддерживали классовую борьбу и солидарность рабочих, а наоборот, препятствовали этой борьбе. Автору этих строк, как члену городского комитета большевиков, довелось принять участие в организации связи между железнодорожниками Одессы и Киева. Эта работа мне была поручена Одесской большевистской организацией. Мне пришлось поехать в Киев. Получив явку от т.Гамарника к тов.Ст.Косиору (секретарю подполья ЦК КП(б)У)1, я сообщил последнему, что мне надо передать киевским железнодорожникам о положении дел в Одесском ж.д.узле. Тов.Косиор назвал место, где я могу встретиться для этого с тов.Гордеевым-Матвеевым. Где-то в Святошине на даче я встретил этого товарища. Не знал я тогда, что “дачник” являлся представителем всех стачечных комитетов жел.дорог Украины. Об этом мне сказал спустя много лет В.М.Бессонов (руководитель Одесской ж.д.большевистской организации, а затем, при Советской власти, секретарь Одесского окружного комитета КПБ(У). По возвращении из Киева я доложил о том, что выполнил поручение, т.е. был у секрета-ря ЦК и по его указанию связался со стачкомом украинских железнодорожников. Не помню, как Одесский горком партии реагировал на это мое сообщение. Мне пришлось также сообщить горкому, что в Киеве я встретил члена одесской партийной организации товарища Рахиль Гольдштейн. Надобность в этом моем сообщении была та, что тов.Гольдштейн спросила меня, не знаю ли я явку к тов.Косиору. Я ей ответил, что не знаю (хотя был на этой явке, даже помню до сих пор, что помещалась она на Трехсвятительской улице). Считал и теперь считаю, что поступил правильно.2 Горком партии одобрил мой “обман”. Тов.Р.Гольдштейн потом сама, когда вернулась в Одессу, признала, что я поступил правильно.
Подпольная работа большевиков была очень сложна. События, как большие, так и малые, происходили каждодневно. В ходе этих событий мы взрослели и мужали. Не могу не включить в эти записки еще одно “событие” из практики рядового большевика-подпольщика. В том же 1918 году (что-нибудь в августе) Одесский губернский комитет партии счел нужным послать меня в гор.Херсон для передачи Херсонскому комитету большевиков крупной суммы денег. Мне никогда не было в тягость партийное поручение. В данном случае поездка была значительно опаснее поездки в Киев. Ведь со мною была крупная сумма денег, да и паспорт чужой. Мне дали такой паспорт, который подходил бы человеку, у которого могут быть большие суммы денег (мне тогда шел только 23-й год). Я приехал в Херсон и тут же отправился на явку. Все было аккуратно условлено, и за какие-нибудь 2-3 часа задание было выполнено: я передал посланную сумму молодому человеку по имени Самуил или Израиль. (Товарищи из Херсона, с которыми я иногда встречаюсь на собраниях литературных объединений Украины, говорили мне, что знают о факте передачи тогда денег из Одессы.) Мне предстояло переночевать в Херсоне, и я отправился искать гостинцу. Город я немного знал по 1913 году, когда работал на заводе Вадона. Получив место в гости-нице, я оставил свой чемоданчик (теперь пустой, в нем раньше лежали деньги) и отправился в город. Вечером я пошел в какой-то театр. Придя из театра, собирался лечь спать, но не тут-то было. В дверь постучали, и в номер вошли полицейские с погонами Украинской вахты в сопровождении администратора гостиницы, в руках которого был “мой” паспорт.Представители властей обратились ко мне: “Господин Гринберг (так значилась по паспорту “моя” фамилия), мы должны сделать у вас обыск. Вот основание для этого”. И предъявили мне ордер. С повадками господ из Украинской вахты я был достаточно знаком к этому времени по их бесчинствам в Одессе. Мне понадобилось немало хладнокровия, чтобы вежливо им ответить, что не смею противиться требованиям властей города, в котором буду жить и учиться в открывающемся здесь политехникуме. На эти мои слова последовал вопрос: “Разве вы для этого приехали в Херсон?” Исключительная предусмотрительность одесских товарищей, командировавших меня, пригодилась здесь замечательно. Помимо паспорта на имя мещанина гор.Екатеринослава, который был мне вручен, они предложили мне написать при них заявление дирекции политехникума с просьбой принять меня студентом. И вот, вместо ответа на вопрос полицейских, я вынул из кармана это заявление и показал им. По лицам господ полицейских я решил, что это написанное заявление возымело положительное действие, но... к обыску они приступили. Перерыли всю постель. Ничего не найдя, они начали особенно тщательно рыться в чемодане, хотя он был пустой, если не считать полотенца, металлической мыльницы и пары белья. Особенно долго они держали металлическую коробочку. Несколько раз взвесив ее в руках, они, наконец, решили открыть ее, но обнаружили лишь обыкновенное мыло. После чего последовал вопрос: “Где ваши деньги?” Я вынул из кармана бумажник, в котором было 70 рублей - 50 рублей в купюре украинских карбованцев и 20-рублевая “керенка”. И опять последовал вопрос: “Как же вы собираетесь с такими малыми деньгами обосноваться студентом?” На этот вопрос я им сказал, что мой отец в Екатеринославе имеет достаточно солидное предприятие, дающее ему такой доход, который позволяет посылать своему сыну сколько ему понадобится для самостоятельной жизни студента. Вряд ли эта моя тирада полностью их успокоила, но они меня не арестовали, а забрали с собой у администратора мой паспорт и велели мне с утра придти за ним в управление вахты. Все это длилось не менее двух часов. Было уже заполночь. Непрошеные гости ушли, но спать я уже не мог.Нечего говорить, что с наступлением утра я отправился не за паспортом, а на пристань, чтобы узнать, какое суденышко в ближайшие не часы, но минуты, уходит из Херсона. Мне было все равно, куда ехать, лишь бы не попасть в лапы державной вахты. В то же утро мне удалось за мои 50 карбованцев уплыть на каком-то катере в Николаев. Через два дня я вернулся в Одессу без паспорта и даже без чемоданчика.
Рассказал я все эти приключения тов.Голубенко. Выслушав меня, он только и сказал, что благо я догадался деньги отдать по назначению до того, как поселился в гостинице. Что касается паспорта с вымышленной фамилией Гринберг, то пусть державная вахта ищет такого в Екатеринославе. Различные формы гражданской войны в то время давали о себе знать ежечасно. Для нас, большевиков, в том числе и для рядовых, участие в этой войне было необходимо, как свежий воздух. Наша большевистская работа не всегда проходила гладко. Кроме преследований со стороны властей и оккупантов, возникали трудности, проистекавшие от недостаточной стойкости и сознательности даже тех людей, которые считали себя большевиками. Когда наша большевистская фракция фабрики узнала, что партия приняла новое название - вместо РСДРП(б), стала называться РКП(б),- среди нас нашелся человек, который заявил, что не согласен считать себя коммунистом. Это был С.Штеренберг. Все наши попытки разъяснить ему политиче-ский смысл переименования партии, а именно: что тем самым мы рвем с социал-демократами, которые предавали революцию, - не привели ни к чему. Мы его исключили из партии. В подполье исключение из партии - редкий случай, но вскоре мы получили подтверждение правильности нашего решения. Штеренберг показал, на что способен,- он убежал в боярскую Румынию.
До октября 1918 года наша подпольная партийная организация продолжала работать. Эта работы принимала разные формы. Например, автору этих строк поручалось получать листовки от т.Агаларова, руководителя Пересыпска, района города1 , посещать подпольные явки для получения тех или других заданий. На явках на Базарной улице, на Греческой ул. (в молоной) и других нас систематически инструктировали т.т.Гамарник, Голубенко и информировали о положении дел во всей городской и губернской организации. К этому времени, кроме нас, большевиков, в подпольную работу был вовлечен ряд молодых рабочих и работниц (т.т.С.Вольман, Л.Петренко). На городской партконференции, состоявшейся в сентябре, наши делегаты имели воз-можность подробно разобраться в “текущем моменте”. Доклад сделал Ян Борисович Гамарник. Поскольку фабрика была центром подпольной работы, из состава фабричной организации были избраны в горком два делегата (тов.Соболь Н. и я).
Наладившаяся работа была прервана в октябре.Должно быть, в нашу организацию проник провокатор.Это дало возможность оккупационным войскам выследить выход из подпольной явки и по дороге к фабрике арестовать наших товарищей. Мне посчастливилось убежать от полицейских, а т.т.Соболь и М.Левин были захвачены и посажены в тюрьму. В донесениях от 30 октября №№ 929,930 градоначальнику г.Одессы кто-то сообщал: “Арест ревкома фабрики Попова: Соболь, Хорец, Куперман, Фрадкин. Конспиративная квартира по Базарной ул. №50 кв.22 у Волкенштейн, Шубат. Секретарь Красного креста -Тейтельбаум, Оксман, Винокуров-фамилии членов ревкома”. Такое донесение, хоть оно и было путанным, должно было успокоить градоначальнка. Многие из перечисленных вовсе не были арестованы, в том числе и Оксман, т.е.я, да и ревкома на фабрике не было, но все же этот документ свидетельствует, что в наши ряды втерся какой-то провокатор. Должно быть, такое же предположение было у тов.Янковской, ибо ничем другим не могу объяснить ее запрет мне являться на фабрику. Это было вечером того дня, когда арестовали Соболя и Левина. Я пришел к ней для получения директив, как к работнику, присланному из Москвы. Она сказала мне, что на фабрику уже нагрянула полиция и что мне в Одесской партийной организации оставаться нельзя. Поэтому предложила отправиться в распоряжение ЦК партии Украины. Узнав от нее адрес явки, я в тот же вечер уехал в Киев и, получив направление для подпольной работы в г.Васильков, отправился туда.
Глава 9
Характер работы был здесь такой же, как и в подполье Одессы, разница была та, что не приходилось работать одновременно у станка, как это было в Одессе. Здесь, в Василькове,мне довелось быть, что называется, в роли профессионального революционера. Эти слова несколько громко звучат, да и не подходят для человека, который в действительности все время был рядовым, но все-таки мне была поставлена задача руководить подпольной работой. Не берусь судить, насколько я хорошо справлялся со своей новой ролью,но,видимо,был приемлем.Знакомясь с положением дел у нас в Василькове,представитель ЦК партии Украины тов.А.С.Бубнов предложил: “так держать”. Запомнилось еще одно его выражение: “Семен, знай, что если будут щи да каша, то и Украина будет наша”. Его бодрящее указание мы, состав подпольного ревкома, приняли как директиву. Помимо меня, в составе ревкома были тов.Лобанюк, рабочий крупнейшего предприятия Василькова - кожевенного завода, тов.Соломко, который был душой крестьянских масс вокруг города. Многие из крестьян состояли в партизанских отрядах.Кроме того, в ревком входили два брата по фамилии Фанштейн, работавшие в мелких кожевенных мастерских.К сожалению,об участи этих четырех подпольщиков мне ничего не известно.Могу написать лишь о тов.Рахмане Д.А., который в то время был связан с нашей подпольной организацией, что он и теперь здравствует, живет в Москве, занимается научной работой,являясь кандидатом или доктором исторических наук. В Василькове он проживал не постоянно, а время от времени наезжал из Киева. Здесь, как и в Одессе, наша работа заключалась в том, что мы сколачивали вокруг нас рабочих (а тов.Соломко крестьян). На заседаниях информировали друг друга о ходе этой рабо-ты. Обманутое население все больше и больше убеждалось в том, что пришедший к власти Петлюра ничем не отличается от гетмана Скоропадского.Революция в Германии в ноябре 1918 года лишила Скоропадского помощи, и первые недели после падения гетманщины Центральная Рада, банда Петлюры, делала вид, что облегчит положение терроризованного населения Украины. На самом деле никакого облегчения не наступило. Наоборот, террор и преследование недовольных усилились. Погромы в городах, в том числе и в Василькове, ограбление крестьян в деревне были основной формой деятельности правительства Центральной Рады. Приказ петлюровского режима, требовавший сдавать николаевские деньги, взамен которых выдавали петлюровские “карбованцы”, переполнил чашу терпения. Начались стихийные выступления кре-стьян против этого приказа. В возникшей обстановке наша задача заключалась в том, чтобы не дать потопить в крови крестьянские массы. Наши силы были недостаточны, чтобы дать достойный отпор петлюровским войскам. Мы располагали надежными данными о том, что в помощь многострадальной Украине двигается Красная Армия. Но она была еще вдалеке от Киева, и только в январе 1919 года красные войска приблизились к столице Украины Киеву. Это дало нам возможность активизировать нашу борьбу. Во время пребывания у нас тов.Бубнова было условлено, что как то-лько наступит время подготовки к освобождению Киева силами Красной Армии, мы в Василькове, как в ближайшем тылу Киева, поднимем восстание. К этому времени к нам прибыл из Киева тов.Федоров Н.Н., который должен был, как военный человек, руководить восстанием. Что-нибудь в 20-х числах января по сигналу ревкома мы захватили город. Главной силой были рабочие упомянутого кожевенного завода во главе с тов.Лоботросом. Из ближайших деревень во главе с тов.Соломко пришли партизаны-крестьяне. Вместе с другой частью восставших, небольшой группой городского населения, нас было не более 200 человек.Петлюровский гарнизон в городе был намного больше,но,деморализованный внезапностью нашего восстания, разбежался в разные стороны. Все это стало быстро известно петлюровскому военному начальству, сконцентрированному в районе самого Киева. Оттуда нахлынуло на нас не менее двух полков хорошо вооруженных солдат-петлюровцев.Никакой наш энтузиазм не мог помочь устоять перед этой лавиной, и мы отступили, захватив все николаевские деньги из казначейства, где они были собраны по приказу, о котором упоминалось выше.Тов.Федоров Николай Николаевич говорил нам, отступавшим (нас осталось 80 человек, из них 60 с завода), что когда его посылали к нам для руководства восстанием, то предупредили, что восстание это рассчитано лишь на то, чтобы оттянуть из Киева петлюровские войска. Эту задачу восстание выполнило, и красным войскам, подступавшим к Киеву, не пришлось бороться против двух полков, которые были отправлены на подмогу Васильковскому гарнизону. 4 февраля 1919 года Киев был освобожден Красной Армией. 5 февраля наш отряд во главе с ревкомом, в состав которого теперь входил и тов.Федоров Н.Н., пришли в этот освобожденный город и сдали наши трофеи - николаевские денежные знаки на сумму 80000 рублей. Теперь не знаю, какова была их действительная ценность для советского казначейства. В Киеве я задержался недолго,так как продолжал числиться председателем Васильковского подпольного ревкома, но вернулся туда как председатель легального революционного комитета, осуществлявшего Советскую власть во всем Васильковском уезде. К этому времени в Василькове были расквартированы Богущанский и Таращанский полки Красной Армии. К заботам об установлении советских порядков в городе прибавились заботы об этих полках. В истории Гражданской войны на Украине немало сообщается о разных перипетиях, имевших место в тех воинских соединениях, куда влились элементы из петлюровских и махновских отрядов. В упомянутых полках таких элементов было очень много. Не стану касаться этих перипетий. Тут необходим дополнительный материал, каковым я не располагаю, а в памяти моей из того, что сам наблюдал, сохранилось немного. Помню лишь, что эти полки между собой враждовали, и стоило немало трудов, чтобы прекратить эту вражду. Большую работу в этом направлении проделал Николай Николаевич Федоров. Он безусловно был опытнее меня, и поэтому был избран председателем уездного исполнительного комитета, а я, по сдаче дел,прибыл в Киев,где получил назначение начальником Политпросвета Уманского военкомата Шла ожесточенная гражданская война. Ехать из одного уезда в другой даже в пределах одной губернии было не так-то безопасно. И в данном случае, когда в Киеве скомплектовался состав Уманского военкомата во главе с его начальником тов.Вулем и мы отправились по железной дороге к месту службы, по пути всем нам доводилось неоднократно вступать в бои с петлюровскими бандами. Они шныряли по Украине и “творили” свои зверские дела. Мне не забыть жуткую картину, которую мы увидели на станции Христиновка. Когда мы вышли во время остановки поезда, на перроне валялись трупы красноармейцев,среди них - один с вырезанным языком, положенным возле трупа. Ужас этого зрелища неописуем. Все мы горели злобой за это зверство, учиненное над красным воином. Наш начальник тов.Вуль распорядился отцепить вагон и всему составу уездного военкомата (Христиновка территориально входила в Уманский уезд) остаться на станции и выследить этих зверюг-петлюровцев. Прежде всего мы убрали убитых и изуродованных красноармейцев и похоронили их в одной братской могиле. Суток двое стоял наш вагон на одном из вспомогательных путей возле этой станции. Забыл, по какой причине я отлучился на вокзал, но запомнил случай, который произошел, когда возвращался в наш вагон. По дороге меня остановил человек в бекеше и начальническим тоном спросил: “Ты кто такой?” Подобный вопрос был тогда уместен, так как обыкновенные солдатские шинели, в какой я был одет, носили воины всяких армий. Может быть, я должен был уклониться от ответа незнакомому человеку, да еще в командирской одежде, т.е.в бекеше, но я не уклонился, а выпалил: “Политбоец Красной Армии”. Человек этот опешил, но улыбнулся моей откровенности и тут же спросил, не знаю ли я, где стоит вагон, в котором находится состав Уманского военкомата. Я сказал, что направляюсь в этот вагон, и мы вдвоем пошли через жел.дор.пути. В вагоне этот “командир” поздоровался с начальником военкомата так, словно они были близкие приятели. Этот факт почему-то меня успокоил, и я занял место на одной из полок вагона. Когда через несколько часов вагон был прицеплен к какому-то поезду и мы отбыли со станции, уже в пути человек в бекеше подошел ко мне вместе с тов.Вулем, которому он рассказал, как я себя отрекомендовал “политбойцом Красной Армии”. Мой настоящий начальник не сделал мне замечания за допущенную откровенность с незнакомым человеком, да еще в такой обстановке, а незнакомец, который на этот раз назвал себя, обратил внимание на неточный мой ответ, ибо в действительности я был начальником политпросвета военкомата, как он это узнал от тов.Вуля. Мне легко было отпарировать.Я сказал ему, что любой начальник в Красной Армии, в особенности, если он большевик, должен считать себя политбойцом. По-моему, это удовлетворило и тов.Вуля, и моего нового знакомого, который оказался известным тогда на Украине большевиком - Иваном Куликом. Мне неизвестна дальнейшая судьба Ивана Кулика, но участь тов.Вуля известна. Во время свирепейшего террора против большевиков, террора, проводимого Сталиным, товарищ Вуль был уничтожен в Москве, где он был начальником Московской милиции. Вот возникшие мимоходом в памяти сухие факты, из которых сочатся слезы и кровь.
Глава 10
Постановление № 198 от 3 мая 1919г. Политотдела Реввоенсовета 3-й Украинской Советской Красной Армии1 внесло в мои пути-дороги такой перекресток, о котором я должен рассказать в своих записках. Дело в том, что на основании этого постановления я был назначен политическим комиссаром авиационного отряда, и, таким образом, из сугубо сухопутного политбойца стал воздухоплавательным политбойцом. Подчас какой-то перекресток на человеческом пути оставляет такое множество воспоминаний, какое не оставляет и длинная дорога. В данном случае, от этого моего перекрестка, сохранились даже и архивные документы, и следы в печа-ти. Не могу не рассказать о нем и на этих страницах. Не прошла и неделя со дня назначения меня комиссаром 2-го авиаотряда 3-го авиадивизиона как меня вызвали в губернский комитет большевиков к тов.Гамарнику Я.Б. На мой во-прос, зачем я вызван в губком, тов.Ян (так мы, работники партии, называли Гамарника), он, вместо ответа, предложил мне сесть. Затем поинтересовался, как и на какой работе я провел почти целый год, после того, как он в 1918 году уехал из Одессы на 2-й съезд Коммунистиче-ской партии Украины. Подробности были излишни, и поэтому после моего краткого сообщения, где я был и что делал этот год, он сообщил мне причину вызова. Она заключалась в том, что нужно было организовать доставку листовок на французском языке солдатам французской армии. Как известно, после того как немецкие оккупанты после революции в ноябре 1918 г. в Германии убрались восвояси, на Украину послали свои войска капиталисты Франции. Изгнанные Красной Армией из Одессы, французские части расположились поблизости - в Бессарабии. Туда надо было доставить, т.е. сбросить, эти листовки. По правде говоря, теперь мне трудно понять, как я взялся выполнить это поручение. Конкретного инструктажа я не получил ни от тов.Гамарника, ни от сидевшего у него человека, которым, как я потом узнал, был известный французский коммунист тов.Садуль. Помню лишь, что тов.Гамарник сказал мне: “Иди к себе в летный дивизион, и там решишь, как это поручение выполнить”. Он еще приободрил меня, сказав тов.Садулю, что знает меня с 1918 г. Трудность заключалась в том, что летный состав состоял из людей, еще не показавших свою верность Советской власти. Начальник дивизиона, как громко назывался этот небольшой воздухоплавательный отряд,незадолго до того был освобожден из заключения.Среди летчиков не было ни одного члена партии. Правда, существовала коллективная форма ответственности - круговая порука, но и это обстоятельство не внушало мне уверенности, что можно с кем-то от-править листовки - и они попадут по назначению.Выход из положения я нашел в том,что решил сам полететь и разбросать листовки над занятой неприятелем территорией. Начальник отряда скептически, даже с явной насмешкой, отнесся к моему решению. Пожалуй, у него были для этого основания: ведь до этого я никогда не подымался в воздух. Однако это не остановило меня. Про себя я решил, что если летчик приземлится в расположении вражеских войск, то я успею пристрелить его и себя. На деле оказалось, что мои опасения были напрасны и предусмотренный план не пришлось приводить в исполнение. Листовки были мною сброшены по адресу (полученная в процессе бросания небольшая травма правой руки зажила и почти незаметна). Летчик тов.Паниоти по возвращении на одесский аэродром объяснил мне, почему получилась травма. Он вскоре стал сочувствующим большевикам. (Почему-то в истории КПСС отсутствует упоминание о том, что были сочувствующие, как ближайшие к нашей партии люди, хотя еще не кандидаты в члены партии.)
Мне думается, будет справедливо сказать, что этим небольшим делом, выполненным по заданию губернского комитета большевиков, мы с летчиком способствовали тому, чтобы “отнять” у французских империалистов какое-то количество солдат - тех, которые смогли прочитать наши листовки.
В.И.Ленин говорил, что самую большую победу над империалистической антантой мы одержали тем, что “ отня-ли у нее солдат” (см.Сочинения В.И.Ленина, том 30, стр.189,4-ое издание). Ведь этих солдат антанты, и в особенности солдат французской армии, всячески обманывали тем, что внушали им, будто они привезены на Украину, чтобы освободить население от “большевистских варваров”.В наших листовках эта ложь разоблачалась и указывалась действительная цель, которую преследовали империалисты, а цель эту очень четко и предельно ясно В.И.Ленин изложил в своей речи 4 сентября 1919 г. в Московском Совете рабочих и крестьянских депутатов. Содержание наших листовок популяризиро-вало речь нашего бессмертного вождя. Считаю, что меня постигла большая удача от перекрестка, приведшего меня на службу в авиации, так как благодаря этому я участвовал в деле отнятия солдат у Антанты. После возвращения с полета я доложил на заседании Губкома о том, как происходил процесс сбрасывания листовок. Закончив информацию, я собрался идти к себе в отряд, но мне предложили остаться, и я остался. Обсуждалось положение в Губчека в связи с болезнью секретаря тов.Михаила. Кто-то предложил рекомендовать меня на работу вместо Михаила. Эта рекомендация была принята без учета того, что я был на военной службе. Присутствовавший Окружной военный комиссар тов.Краевский не возражал (а он по существу был моим начальником). Таким образом, из военного работника я стал чекистом. На этом же заседании, где председательствовала секретарь Губкома партии тов.Елена Соколовская1, было принято решение, чтобы я подписывался фамилией Величко. Не беру на себя право судить, насколько такая перемена фамилии была правильна, но губком, вероятно. учитывал, что под решениями Губчека еврейская фамилия Оксман, какая у меня была по отцу, не совсем удобна. Ведь и председатель Губчека тов.Саджай (грузин) подписывался фамилией Калиниченко. Сложный и тяжкий период был тогда в Одессе. Белогвардейские силы,как за пределами города, так и в самом городе, активизировались. Известное восстание немецких кулаков недалеко от Одессы показало, что надо быть всегда начеку. Под руководством губкома партии горо-дской комитет партии мобилизовал все свои силы на борьбу с этим восстанием. В боях за его подавление геройски погиб мой младший брат.2 Очень деятельное и активное участие в мобилизации принял руководитель городского комитета тов.Соболь Н.Л.3 (членом этого комитета тогда был и я). Работа чрезвычайной комиссии в этой обстановке была напряженной. Наряду с мерами по обезвреживанию контрреволюционеров в порядке красного террора (см. одесскую газету “Знамя борьбы” от 5 июля 1919 г.), надо было участвовать в формировании военных частей, отправлявшихся на фронт (см. ту же газету от 11 июля 1919 г.) Кроме того, Губернский исполнительный комитет Советов рабочих депутатов обязал представителей Губчека работать в составе специально образованной комиссии под председательством председателя Губисполкома тов.Ивана Клименко, имевшей своей задачей освобождать из мест заключения необоснованно арестованных (см. ту же газету от 27 июня 1919 г.,номера названной газеты имеются в ИМЭЛе). Тов.Клименко, несмотря на свою большую занятость, уделял этой комиссии очень мно-го времени и внимания. Мне, как члену комиссии, он неустанно доказывал, и убедил меня в том, что, принимая суровые меры против вражеских элементов, мы, как представители диктатуры пролетариата, одновременно должны быть максимально гуманны к неправильно и случайно арестованным, ибо, как говорил тов.Клименко, Советская власть - самая гуманная власть на земном шаре. Масштабами всего земного шара мы, большевики, тогда главным образом и мыслили. Наша комиссия по разгрузке тюрьмы каждый день обходила ее камеры и тут же реша-ла, кого из заключенных выпустить. Не забуду, как в один из этих дней начальник тюрьмы привел нас в камеру, в которой сидел белый генерал Эбелов. Он до Советской власти командовал Одесским военным округом. Войдя в камеру, мы были поражены ее видом, так как увидели об-становку, которая никак не походила на тюремную камеру. Койка была застелена домашним одеялом и подушкой с накидкой, на столике стояла ваза с цветами, окошко было занавешено белоснежной занавеской. Сам генерал Эбелов был одет с иголочки, в штатском хорошо отгла-женном костюме, а “параша” была так замаскирована, что оказалась совсем не заметна. Нечего говорить, что не такие арестанты нас интересовали. Об освобождении таких не могло быть и речи, и мы сразу же пошли по другим камерам. По дороге сам тов.Клименко спросил у началь-ника тюрьмы (к сожалению, не помню его фамилию), не слишком ли “гуманно” относятся к белому генералу? Признаюсь, я тогда считал и теперь считаю, что начальник тюрьмы должен был не так держать этого контрреволюционера. С полного согласия всей комиссии в эту камеру был переселен один красноармеец, которого мы застали в карцере на голом полу. Освободить этого красноармейца мы не могли сразу, так как нужно было выяснить некоторые данные о нем в его воинской части. Генерал Эбелов в тот же день был препровожден в камеру Чрезвычайной Ко-миссии на Екатерининской площади (так называлась внутренняя тюрьма). Года через полтора, т.е. в декабре 1920 года, когда мы с тов.Клименко вместе ехали в Москву на 8-й Съезд Советов от Одесской губернии, мы часто вспоминали это “переселение” и считали, что оно было вполне гуманным, если по-большевистски понимать гуманность. В конце июля или начале августа 1919 г.мое секретарство в Губчека кончилось.Это произошло в связи с тем, что в Одессу из Москвы приехала Комиссия ВЧК во главе с т.Редэнсом, который счел нужным, чтобы секретарем был назначен другой. Тов.Редэнс не думал, что этот другой, по имени Веняжин, окажется предателем. Должно быть, Одесский губком партии не возражал, и я был направлен в распоряжение Одесского военного округа. Комиссар Одесского военного округа тов.Краевский1 назначил меня в артиллерийское управление округа. Здесь, на должности помощника военкома, я пробыл до эвакуации нашими войсками Одессы из-за нападения на нас белогвардейской армии Деникина. 23 августа 1919 года наши войска вынуждены были оставить Одессу. В районе г.Балты воинская часть, с которой я отступал, была рассеяна превосходящими силами белогвардейцев. Обстановка, сложившаяся тогда в тех местах, известна из истории Гражданской войны. Кроме деникинских орд, бушевали, в особенности в провинции, петлюровские банды. Было немало случаев, когда жертвами оказывались люди, прибывшие откуда-либо в данную местность. Ждать случая установления связи с местными большевиками - это значило на неопределенное время остаться в этой местности. Мне было известно, что в Одессе остались товарищи для ведения подпольной большевистской борьбы в тылу у деникинцев. С некоторыми из них я был знаком. Исходя из этого я решил каким угодно способом, главным образом пешим ходом, добраться до Одессы. Это мне удалось, и где-то в середине сентября я пришел в Одессу со стороны Николаевской дороги. Здесь, в большом городе, не сразу окажешься предметом внимания людей. Кроме того, я решил до времени не выходить из квартиры брата, которая, кстати, находилась в погребе (в Овчинниковском переулке). На второй или третий день я дал знать о своем нахождении в Одессе работнику подпольного большевистского Красного Креста тов.Соне Котляр. Мы знали друг друга много лет и, конечно, доверяли друг другу. Она, в свою очередь, поставила в известность о месте моего нахождения подпольный комитет партии. Так была установлена связь со мною, и были приняты меры к тому, чтобы использовать меня для подпольной работы. К этому я и стремился, когда решил отправиться в Одессу. Еще несколько дней спустя Котляр передала, что меня ждут на явку, помещавшуюся на Колонтаевской улице (ныне ул.Дзержинского). Придя туда в вечернюю пору, я встретился с тов.Р.Лучанской, секретарем подпольного горкома партии.2 Она спросила, согласен ли я поехать в Елисаветград для работы в подполье. Я тут же изъявил полное согласие, ибо о работе в Одессе и думать нельзя было. Ведь моя фамилия значилась под публиковавшимися решениями одесской Губчека. Я просил как можно скорее организовать отправку меня для работы.Долгое пребывание в Одессе было очень опасно, да и безделие тяготило меня основательно. Если к этому прибавить,что нахождение у брата представляло большую опасность для него и его семьи, то все это вместе настоятельно диктовало необходимость скорого принятия решения о моем отъезде. Тов.Лучанская согласилась с моими доводами, но все же окончательное решение состоялось лишь через месяц.3 Получив “мандат”, написанный на хлопчатобумажной материи, и явку в Елисаветграде, а также другие руководящие указания (не ехать в поезде, надеть шляпу и проч.), я извозчиком доехал до места, где меня ожидала подвода. Таким образом Одесский Губком большевиков отправлял в подполье своих уполномоченных на места (см. книгу “Из истории Одесской боль-шевистской организации”, стр.224). Подводе надлежало двигаться до Елисаветграда гужем, т.е. запряженной лошадьми.
Глава 11
Первая остановка для отдыха лошади была после того, как проехали Пересыпь (район г.Одессы). Мне никогда не забыть зрелища, увиденного на площади между Московской улицей и Балтской дорогой. На столбах висели четверо людей - жертвы деникинского террора, учинен-ного белогвардейцами в Одессе. Если эти повешенные и не были активными работниками ни нашей партии, ни Советской власти, то они при гибели поняли, что являются жертвами белого террора. Такие факты зверского террора имели место в практике врагов революции. На после-дующих страницах будет приведен факт, имевший место в Елисаветграде, где было повешено 18 человек. Здесь мне хочется отметить, что вскоре после моего отправления из Одессы на фабрике Попова, где я работал в 1917 и 1918 гг, был произведен тщательный обыск. Приведу сообщение об этом нашей подпольной газеты “Коммунист” в № 139 за ноябрь 1919 г.: “На фабрике Попова был произведен недавно тщательный обыск. Искали подпольную газету. “Коммуниста” не нашли, но без добычи не вернулись: торжественно унесли с собой несколько номеров “Борьбы”. Добровольцами арестован один беспартийный рабочий - однофамилец Величко, члена нашей партии” (см. эту газету в ИМЭЛ).Этот мой однофамилец был зверски избит и после долгого пребывания в тюрьме освобожден, так как сумел доказать, что он член Союза русского на-рода. Он обещал белогвардейцам, что если ему когда-нибудь удастся встретить меня, то он с лихвой отплатит мне за свои муки. Но ему не удалось меня встретить. Вернусь к моему путешествию из Одессы в Елисаветград, к месту третьего подполья (если не считать царского). Длилась эта езда на подводе шесть суток. Передвижение по бездорожью, при всем желании хозяина лошади поскорее избавиться от такого пассажира, было очень утомительно не только для меня и возчика, но и для лошадей. Наконец, к вечеру какого-то оно кончилось для лошадей и хозяина, но не для меня. Доехав до села Новоукраинка (оно находится в 60 верстах от Елисаветграда), хозяин отказался продолжать путь до заранее усло-вленного места. Все мои уговоры не подействовали, и ответ был краткий: “Не хочу гробить лошадей”. Мне ничего не оставалось, как убраться с постоялого двора, где остановился мой транспорт, да убраться подальше, чтобы возчик не узнал, где я. Теперь не помню, куда именно я пошел. Мои попытки нанять другую подводу оказались безуспешными. Никто из извозчиков не захотел в ту слякотную осеннюю пору проделать путь в 60 верст. Сочтя себя вынужденным нарушить данное мне в Одессе указание не ехать поездом, я отправился на вокзал. Я исходил из того, что путь в 60 верст по железной дороге займет немного времени. В тот же вечер отправлялся поезд в Елисаветград. С купленным ж.д.билетом мне удалось забраться лишь в товарный вагон. Весь пассажирский поезд имел в своем составе 2-3 пассажирских вагона, которые были заняты офицерами деникинской армии и какими-то расфуфыренными женщинами. В этом товарном вагоне было много солдат-казаков. Была в нем и штатская публика. Поперек вагона, вероятно, на высоте полуметра, лежали доски, на одной из которых я нашел себе место. В вагоне не было никакого освещения. Лишь через настежь открытые двери проникал тусклый свет станции. Отсутствие света я даже счел для себя положительным фактом. Однако этот факт повлек за собой для многих штатских пассажиров не одни лишь слезы, но и немало крови. Поезд должен был отправиться в 10 часов вечера. После 2-го звонка (тогда поезда отправлялись после третьего звонка) среди едущих наступила полная тишина. В этой долгож-данной тишине вдруг раздался громовой голос: “Жиды, выходи из вагона, а то на ходу выбросим”. Создался невообразимый переполох. В темноте множество людей с мешками и чемоданами бросились к открытой двери. Это дикое зрелище сопровождалось хохотом и ликованием, в особенности со стороны солдат и казаков. Передо мною мгновенно возник вопрос: как мне поступить?. И мгновенно я ответил себе: сидеть и не двигаться с места. Очутиться среди этих ударившихся в бегство людей, имея зашитый мандат, обязывающий меня приступить к подпольной работе, значило бы на неопределенный срок оттянуть время начала работы. Представить себе мое тогдашнее самочувствие не так-то легко. Теперь, спустя 45 лет, когда из 23-хлетнего юноши я стал человеком почти преклонного возраста, стариком, могу ут-верждать, что руководствовался тогда лишь одним стремлением - выполнить большевистское поручение. Вдобавок я рассчитывал в ближайшие 2-3 часа прибыть в Елисаветград. Но не тут-то было.После третьего звонка поезд почему-то не отправился. Лишь когда наступила полночь, поезд, наконец, тронулся. Я пишу тронулся, потому что спустя каких-нибудь 20-30 минут он ос-тановился не у железнодорожной станции, а в поле. Стояли довольно долго. Вдруг раздвину-лась дверь, в вагон взобрался человек в ж.д.форме и заявил: “Если хотите ехать, то помогите погрузить топливо для паровоза”. Большинство пассажиров этого “комфортабельного” вагона слезли и пошли грузить. Я был в их числе. В течение примерно часа тендер паровоза был загружен дровами, и поезд опять тронулся. Все взобравшиеся обратно в вагон были уверены, что теперь топлива хватит и поезд уже не остановится в поле. Но, увы, таких остановок было еще несколько по неизвестным причинам. Прошла целая ночь, а до Елисаветграда мы так и не добрались. Наступление светлого дня меня не радовало, но все обошлось благополучно. Совместная погрузка топлива, да и разговоры с моими соседями по вагону, как-то способствовали тому,что моя еврейская наружность не была никем замечена,но на сердце у меня было неспокойно. К полудню поезд опять остановился из-за отсутствия топлива, и опять железнодорожник появился в вагоне с просьбой погрузить таковое (так деникинские власти налаживали транспорт). На этот раз мы бросали в тендер вместе с дровами и шпалы, лежавшие на рельсах. Эта остановка была в каких-нибудь 15-20 верстах от Елисаветграда. Наконец, уже в сумерки поезд доехал до долгожданного места. Почти сутки мы ехали 60 верст. Таким достижением могли хвас-тать “борцы за единую неделимую Россию”. Мой небольшой чемодан привлек к себе внимание одного из этих блюстителей порядка. Он направился ко мне, но я его опередил - сам подошел к нему и спросил, как добраться до Дворянской улицы. Моя инициатива заговорить с ним привела к тому, что жандарм не стал даже открывать чемодан, и я получил возможность быстро выбраться из жандармского окруже-ния. Я не решился пойти на явку с моим зашитым мандатом в тот же вечер. Считал, что лучше на денек-другой остановиться в гостинице.Это время я использовал для подыскания себе квар-тиры.Не в гостинице же было оставаться на долгое время. Это увеличило бы риск оказаться под наблюдением, да и не по карману это было подпольной организации, на средства которой я должен был жить. Вероятно, на второй или третий день я пошел на явку и вручил свой мандат тов. Каменской Р.И. Вскоре я был введен в состав подпольного ревкома. Уездный ревком в то время был и уездным комитетом нашей большевистской партии.
Глава 12
Началась пора повседневной подпольной работы, характер которой был таким же, как и в предыдущие периоды. К сожалению, я не фиксировал каждодневную деятельность нашей организации. Думаю, что никто из мне подобных рядовых участников подполья не фиксировал тогда эти тяжелые дни и месяцы своей жизни и работы. Елисаветград(ныне Кировоград) был тогда одним из крупных уездных городов Одесской губернии. В нем было несколько промышленных предприятий. Наиболее крупным был завод сельскохозяйственных машин, принадлежавший фирме Эльверти. На этом заводе имелись, хотя и в небольшом количестве, наши товарищи по партии. На других мелких и средних предприятиях мы имели лишь единицы единомышленников. И все же нам удалось развернуть советскую агитацию. Она была направлена на подрыв деникинской тирании против населения, как в городе, так и в селе.Сельское население уезда, обманутое махновско-григорьевскими бандами, убедилось, что и деникинские “порядки” нисколько не улучшили положения. Лишь кулачество и явные богатеи молились за деникинскую власть. Правые эсеры и меньшевики, которых в уезде было немало, продолжали свою предательскую политику. В этой связи вспоминается один из позорных фактов предательства эсеров и меньшевиков. В ноябре 1919 г. нам в ревкоме стало известно, что на станцию Знаменка (недалеко от Елисаветграда) приехал и остановился там деникинский генерал Слащев. Он потребовал, чтобы елисаветградская “общественность” приехала к нему в Знаменку. Мы, большевки, использовали это наглое требование и повели агитацию против такой поездки. Мы всячески доказывали нашей общественности - рабочим и передовой интеллигенции, - что не к лицу им ехать на поклон к головорезу. Мы приводили факты из деятельности этого Слащева в других местах Украины, захваченных деникинцами. Его деятельность характеризовалась массовым террором и виселицами. К сожалению, нам, большевикам, не удалось убедить людей в нашей правоте, ибо те, кто агитировал за поездку к Слащеву - эсеры и меньшевики, - имели при белогвардейском ре-жиме больше сил, чем мы, и легально вели свою предательскую работу.Особенно отличился своей активностью елисаветградский лидер меньшевиков - присяжный поверенный Якубовский. Он добился того, что, так называемая, общественность города во главе с ним поехала в Знаменку на поклон к вешателю Слащеву. О чем говорили в салон-вагоне эти “представители” со Слащевым, было неизвестно, но через два дня население города и окрестностей увидело рзультаты поклона белому генералу. На Кавалерийской площади были сооружены виселицы, на которых слащевские каратели повесили 18 человек. Ревком поручил мне пойти на место казни и опознать, нет ли среди повешенных тех товарищей, которые были с нами связаны. Ни одного из таковых среди этих жертв не было. Я имел возможность прочесть те издевательские надписи, которые были сделаны на дощечках, прибитых к виселицам. Одна такая надпись висела у тела женщины и гласила: “Коммунистка, петлюровка”. Рядом висел мужчина, и над ним была надпись: “Иуда, петлюровец, комиссар”. Другие надписи были не менее мерзкими и издевательскими. Так ответил головорез Слащев на лакейский поклон эсеров, меньшевиков и иже с ними. Надо отметить,что после убиения невинных людей произошло заметное положительное оживление среди рабочих завода Эльворти, да и всего населения Елисаветградского уезда. У нас стало больше сторонников, и к нашей агитации против властей внимательно прислушивались. На заводе Эльворти мне удалось сколотить группу рабочих в 15-20 человек во главе с тов.Телечко, впоследствии ставшим руководителем профсоюза металлистов. Член ревкома тов.Завина И.Н. информировал,что у него увеличивается количество крестьян, желающих быть в партизанских отрядах. Председатель ревкома тов.Францевич Николай Николаевич все чаще отправлялся на места для инструктажа и проверки того, что там делалось в направлении помощи наступавшим частям Красной Армии. О Николае Францевиче следовало бы написать гораздо больше ,но десятилетия стерли в моей памяти детали облика этого замечательного большевика. Не будучи самым старым среди нас по годам (хотя бороду носил), он, однако, был нашим старшим товарищем и настав-ником. Даже Лисунова Ивана Петровича, который был много старше его,Францевич заражал бодростью и вдохновлял на активную работу среди крестьян, живущих вокруг Елисаветграда. Товарища Викторова, который появился у нас в ревкоме в декабре 1919 года, приехав из Ново-украинки, наш председатель очень эффективно использовал для широкого распространения листовок. Может быть, поэтому по выходе из подполья тов.Викторов стал редактором нашей уездной газеты. Меня он обязал информировать ревком не только о том, что происходило в рабочем коллективе, но и о настроениях в офицерской среде. Мои сведения об этой среде были куцые, потому что черпались из малого источника - семьи офицера, на квартире у которого я снимал комнату. Хотя сам хозяин квартиры в конце декабря уехал из города, в его семью продолжали наведываться знакомые и сослуживцы. Несмотря на то, что власть белых распространяла вер-сию о прочности их положения, в городе царил настоящий кошмар. Из-за грабежей, творимых деникинскими солдатами и офицерами, население не выходило из своих домов. Ночью и днем все держалось на засовах и многочисленных замках. Однажды я возвратился на квартиру в вечернее время. После того, как я достучался и хозяйка, узнав мой голос, открыла дверь, она тут же сообщила мне новость: “Знаете, Владимир1 Андреевич, наша разведка с честью выпол-нила задачу. Она арестовала весь состав большевистского комитета в количестве 15 человек”. Два предыдущих подпольных периода научили меня должным образом реагировать на всякого рода сногсшибательные сенсации, в особенности, когда они исходили от людей, враждебно настроенных к Советской власти и к большевикам. В данном случае жена белогвардейского офицера (сам он был на фронте) желаемое выдала за действительное. Вымышленность ее заявления была для меня особенно ясна, так как я знал, что подпольный комитет состоял не из 15 человек, а также потому, что пришел-то я прямо с заседания этого комитета. Чтобы показать, что я принял сообщение за правду и сочувствую хозяйкиной радости, я ответил на ее тираду: “Ну, вот и слава богу, наконец-то, может быть, станет спокойно жить в городе”. Никакие ободряющие слухи не помогли. Белогвардейцы усиленно готовились к уходу из города. Они боялись быть захваченными интенсивно наступающими частями Красной Армии, а также боялись ударов партизанских отрядов с тыла. В эти, последние дни деникинского влады-чества члены подпольного комитета беспрерывно дежурили по целым суткам на явке, которая находилась на квартире тов.Ф.Бершадской в центре города (напротив какой-то мельницы). Во время моего дежурства я рассказал присутствовавшим о мнимом аресте нас всех, да еще и о том, что состав наш увеличили вдвое. Т.т. Завина и Лисунов, пришедшие информировать о том, что делается на их участках, не сразу поняли шутливый тон моего рассказа, но когда они увидели, как наш председатель тов.Францевич заразительно смеется по поводу этой, моей “информации”, наконец поняли в чем дело и тоже залились смехом. Веселье на этом моем последнем подпольном дежурстве еще более увеличилось благодаря радостному известию от наших связных, сообщивших,что уже слышна стрельба орудий со стороны наступающей Красной Армии. Тов.Викторов, который все время уверял нас, что его партизанский отряд первым войдет в город, не был в обиде на то, что уж не его отряд будет головным, а регулярная часть Красной Армии. И действительно, в город вошли части 60-й дивизии 12-й армии. Я в это время дежурил в ревкоме. 30 января 1920 г. - этот день никогда не померкнет в моей памяти. Ведь это был последний день подполья для меня, рядового большевика. Три года, прошедших с февраля 1917 года, были заполнены в моей жизни каждодневным посильным участием в гражданской войне, навязанной нам белогвардейщиной всех мастей. С момента освобождения города от деникинской тирании для ревкома настала пора иных дел. Надо было налаживать жизнь в городе и уезде. Эта деятельность ревкома отображена в протоколах заседаний и приказах военных властей. В архивах Елисаветграда (ныне Кировограда) можно, по всей вероятности, найти эти документы. По ним историк увидит, в каких сложных и тяжелых условиях работали в подполье многочисленные члены большевистской партии,созданной Лениным. Здесь мне хочется зафиксировать то, что в протоколах, может быть, и не отмечено. На первое легальное заседание ревкома, состоявшееся на явочной квартире, к нам пришли Я.Б.Гамарник и Л.И.Картолошвили.1 Эти выдающиеся большевики во главе головных частей Красной Армии направились в освобожденные районы Украины по указанию Центрального комитета Коммунистической партии.В их присутствии мы произвели распределение обязанно-стей для легального времени. Н.Н.Францевич был утвержден председателем ревкома. Тов.Завина - военным комиссаром уезда. Викторов Ив.Ив. превратился в редактора нашей уездной газеты. Лисунов П.Ф. убедил нас в том, что его следует временно освободить от работы, так как он очень плохо себя чувствовал (в подполье сильно обострился его туберкулез). Меня назначили начальником политпросвета уездного военкомата (должно быть, руководствовались тем, что в начале 1919 года я уже был на такой работе). Руководство городским комитетом партии до партконференции осталось за тов.Францевичем. Этими решениями закончилось первое легальное наше заседание. Никак не могу не сказать о том, как я вернулся после этого заседания к себе на квартиру. Для этого есть две причины. Первая - та, что квартирохозяйка опять проявила свою “активность”, спросив меня:“Где это вы в такое тревожное время пропадали почти двое суток?” Мой ответ ошеломил ее до того, что с ней случился обморок. Нечего говорить, что я и не думал и не хотел довести ее до такого состояния, но так случилось, когда она услыхала от меня, что эти двое суток я дежурил в ревкоме и что теперь в городе уже не тревожно, ибо Революционный Комитет и Красная Армия обеспечат полный порядок. Вторая причина та, что я пришел не один. Товарищи Гамарник и Картолошвили пожелали пойти ко мне ночевать, как к старому знакомому по 1918 и 1919 гг. Не помню, была ли у меня возможность угостить их каким-нибудь ужином, но место для ночевки было. Таким местом мог служить только пол, на котором Л.И.Картолошвили постелил свою кавказскую бурку. На этом ложе мои друзья-товарищи и проспали ночь. Мои дорогие гости не были в претензии ко мне за такой прием, в этом я был уверен тогда, и теперь эта уверенность меня не покидает, так как гости мои были настоящие большевики! Город Елисаветград был одним из пунктов моих путей-дорог и последним местом, где я работал в большевистском подполье. В заключение рассказа об этом периоде - еще одно воспоминание, которое, считаю, будет здесь уместным, хотя оно касается факта легального времени. Почти месяц спустя после того, как город был освобожден от деникинских орд, наступила неделя Красной Армии. Тогда юбилей Красной Армии 23 февраля отмечался в течение целой недели.В эти дни на собраниях рабочих, как и на митингах, мы призывали трудовое население пополнять ряды нашей армии и помогать ей в снабжении продовольствием и нужным ей обмундированием, бельем и т.п. Работники уездного военкомата на этих собраниях и митингах не успевали принимать приносимые вещи, так как население очень щедро отозвалось на наши призывы. Кроме того, военкомату было необходимо производить очень тщательный отбор среди тех, кто добровольно шел в армию. Ведь в ту пору в нашу Армию принимались не все. Радушие, которое трудовое население оказало Красной Армии во время ее второй годовщины, вполне объяснимо: ведь она освободила трудящихся от произвола и поборов белой армии, верного пса на службе международной буржуазии. Главной задачей Военкомата и его Политпросвета было разъяснить трудящимся именно этот момент. Ревком по прошествии недели отметил, что с этой задачей военкомат справился. Что-нибудь в начале марта я расхворался (весь был покрыт фурункулами). Получив разрешение лечиться в Одессе, я вскоре туда поехал. На этот раз уже не приходилось опасться, что будешь выброшенным на ходу поезда, да и ехать можно было в пассажирском,а не в товарном вагоне. Итак, один за другим прошли три года гражданской войны, в которой я изо дня в день участвовал как рядовой большевик. К сожалению, наша страна еще была вынуждена вести войну с белополяками. По выздоровлении я попросил разрешения отправиться на польский фронт и не позже апреля прибыл в распоряжение 60-й дивизии 14-й армии.
Глава 13 (начало)
В частях этой дивизии, действовавшей против белополяков, я продолжал воевать до осени 1920 года. Вспоминается мне, как нам, политработникам, приходилось разъяснять абсурдность надуманной версии о красном империализме. Она возникла тогда, когда наши полки перешли старую русскую границу у Подволочиска. Когда мы заняли Тернополь и получили несколько дней отдыха, то каждый из этих дней проходил в беспрерывных беседах с красноармейцами на эту тему. Особенно убедительно доказывала вздорность мысли о красном империализме тов. Черняк - комиссар бригады. Признаюсь, только из бесед, которые проводила тов.Черняк, я впервые узнал о тезисах ЦК РКП(б) “Польский фронт и наши задачи”. В этих тезисах предельно ясно указывается, что “разгром напавшей на нас польской белогвардейщины ни на иоту не изменяет нашего отношения к независимости Польши”. В октябре 1920 года, когда было заключено перемирие с белополяками (оно перешло в мир), меня демобилизовали, и я вернулся в Одессу. Я вновь стал к токарному станку на той же фабрике, предпочитая эту свою профессию мандату директора табачной фабрики в Херсоне, каковой мне вручили по прибытии с фронта. Недолго довелось мне работать на той же фабрике, на которой меня застала Октябрь-ская революция 1917 года и январские бои в Одессе 1918 г. В числе двенадцати делегатов от Одесской области я в декабре того же 1920-го года поехал в Москву на 8-й Съезд Советов. С этого времени начинается совершенно новая страница в моей жизни и, следовательно, новые пути-дороги, наполненные иными фактами. Обо всем этом пойдет речь на следующих страницах.
Перейдем к началу автобиографической книги С.А;Величко-Оксмана — к его «предреволюционной жизни».
Глава 1
В этот год мне стукнет 75 лет. Такой возраст не говорит, что впереди еще много лет жизни. Это обстоятельство толкает меня взяться за перо, чтобы собрать и свести в единое целое все то, что уже написано мною в разное время. Оговариваюсь заранее: в этих записках нет ничего сочиненного. Здесь только факты. Некоторые из них не представят ничего оригинального, другие, сдается мне, могут послужить материалом для того, чтобы узнать, какова была жизнь человека, который с юных лет стал на большевистский путь и этим путем шел всю жизнь. Всякий, кто был участником и свидетелем значительных событий в жизни своей Родины, должен поделиться своими впечатлениями о виденном и слышанном. В этих записях только об этом и речь. Ведь не только признанные писатели или литераторы своими рассказами и повестями могут внести свою лепту как материал для историков. В описаниях некоторых фактов не следует усматривать разглашение каких-то тайн. Это было бы вздором, во-первых, потому, что они имели место много десятков лет назад, а во-вторых, многие тайны перестали ими быть после ХХ и ХХII съездов КПСС.
Как и многие, кто отваживается писать воспоминания, я начинаю со времен моего юношества, которое наступило, когда мне было 16-17 лет. Правда, уже за пять лет до этого мне пришлось одному “руководить” переездом из белорусского города Пинска в Одессу моих трех младших братишек и младшей сестрички. Такую “миссию” возложили на меня мои родители, которые к тому времени уже переехали в Одессу. Об этом путешествии можно было бы написать много страниц, которые повествовали бы о беспросветной жизни бедноты в старой царской России. Я ограничиваюсь здесь только упоминанием об этом факте.
Жизнь в Одессе, которая началась с ученичества у парикмахера, в мастерской фото-цинкографии, у токаря по дереву, не является чем-то необычным для мальчиков из семей с таким достатком, какой был в семье моих родителей. Пора такого ученичества закончилась у меня осенью 1910 года и началось ученичество в Одесской ремесленной школе общества “Труд”. Первые два года учебы в этой школе не внесли ничего особенного в мою жизнь, если не считать, что, в отличие от многих моих соучеников, я получал в период учения бесплатную пи-щу, а в каникулярные месяцы должен был наниматься на работу, так как в эти месяцы в школе не кормили. Во время каникул, когда я закончил 3-й класс этой школы, в моей жизни произошло такое событие, с которого и начинается действительная моя жизнь. Что побудило или толкнуло меня, юношу в неполные 17 лет, поехать в город, в котором я не имел ни одного знакомого человека, не знаю. Думаю, что и тогда не мог бы ответить, если бы кто-нибудь задал мне такой вопрос. Между тем, эта поездка определила всю мою последующую жизнь. Что это так, покажет дальнейшее изложение.
Итак, во второй раз в свою жизнь пускаюсь в путешествие. На этот раз без четырех ребятишек и без пересадок с парохода на поезд железной дороги, а прямым путем по Черному морю из Одессы в Херсон. Деньги на поездку нужны были небольшие, но у меня и их не было. Выручил тогдашний мой соученик В.М.Ходер. Он дал мне свои часы, которые я заложил в ломбарде, получив за них 2 рубля. Этой суммы было тогда достаточно, чтобы прожить до первой получки. За переезд на пароходе платить мне не надо было, так как знакомый матрос устроил меня смазчиком на пароходе под названием “Граф Тотлебен”. Я не ставил себе цель все кани-кулярное время провести на пароходе. Такая цель была бы очень заманчива, но неосуществи-ма. Мой матрос не имел возможности обеспечить меня работой на 2-3 месяца. В тогдашней России не было равноправия для всех жителей страны. И не все жители назывались гражданами. Лишь среди богатых евреев были такие, которые имели звание гражданин и даже “почетный гражданин”. Все остальные числились в сословии мещан, а таких евреев на работу в транспортные предприятия не принимали. Это тоже “сухой факт”, из которого текут слезы, а то и кровь . В Херсоне мне повезло.В те времена безработные подходили с раннего утра к воротам, и мастера предприятия отбирали тех, кто им больше нравился. После того, как мне отказали в приеме на работу у ворот завода Гуревича, я решил, что проситься на работу мне надо как-то иначе. В этом городе было тогда только два завода. Кроме упомянутого, был еще завод по ремонту судов, принадлежавший господину Вадону. Этот заводчик по утрам в одни и те же часы подъезжал к своему предприятию. Я воспользовался этим и на третий день пребывания в Херсоне выждал господина Вадона и тут же попросил его принять меня на работу токарем. Не знаю, сыграл ли роль мой маленький рост или что-то другое, но мой будущий хозяин распорядился дать мне пробу и, если выполню ее хорошо, принять меня на работу. К моему удовольствию, проба была для меня несложной, и меня взяли,положив ставку 1 руб. в день. Оплата эта в 1913 г. для 17-летнего паренька была неплохая. Правда, для рабо-чих день длился на этом заводе с 6 ч. утра до 6 ч. вечера, но все же я был доволен. Я сообщил об этой удаче своему старшему брату, который поспешил спросить меня в ответном письме: “Какая у тебя функция на заводе?” По правде сказать, я не знал, что означает “функция”, но ответил, что обязан 12 часов обтачивать разные детали для машин на токарном станке.
С трудовой жизнью я был знаком не только по ремесленному училищу, но до этого не приходилось работать на заводе, да еще таком большом, с ревущим гудком, начинавшим реветь за час до начала работы и будить всех людей, живущих вокруг. Трудовая жизнь у меня началась иная, чем была раньше. Люди, окружавшие меня, тоже были другие. Взять хотя бы сына моего квартирохозяина, который, как только узнал, что я работаю на судостроительном заводе, стал всячески проявлять зависть. Он работал на заводе Гуревича слесарем и был старше меня года на 3-4. В разговорах со мной он объяснял свою зависть тем, что, по его мнению, на заводе Вадона работало много “питерцев”, а они хорошие люди. Мне тогда непонятно было, почему окружение “питерцев” должно было вызывать зависть, но вскоре я понял и убедился, что такое мнение о людях из Петербурга является правильным. Мой сосед по станку был старше меня не менее, чем лет на десять, ему было лет 27, а то и все 30. Когда у нас супорты передвигались самоходом, в особенности, когда случайно попадались крупные детали, мы имели возможность поговорить друг с другом. Очень часто я у него спрашивал, как лучше начать обрабатывать ту или другую деталь. Он охотно отвечал мне и не раз по своей инициативе помогал устанавливать и выверять различные детали. Все это расположило меня к моему доброму соседу по цеху, который оказался “питерцем”. Этот человек не только оказывал мне бескорыстную помощь в работе (я ведь был еще не очень опытным токарем). Он стал для меня, что называется, “крестным”, просвещая меня своими рассказами о житье-бытье рабочего сословия, т.е. класса. Не ручаюсь, что именно так он и выражался, но отлично помню, что говорил он обо всех рабочих, а тогда ведь люди в России делились на сословия. Возможно, что он употреблял слова “рабочий класс”, но если бы и так, то вряд ли я в то время понял бы, что это такое. День ото дня я все больше проникался расположе-нием к своему питерцу. Когда я его назвал “господин Федоров”, он посмеялся надо мной и сказал, что будет ме-ня ругать, если я его так буду называть. “Зови меня Михаилом (по имени), рабочий рабочего не должен называть господином”. Это для меня явилось настоящим и ошеломляющим событием.
Спустя какое-то время мой дорогой Михаил Федоров рассказал мне, что его выслали из Питера за то, что он участвовал в сборе денег для бастовавших рабочих завода “Старый Лесснер”, хотя сам работал на трубочном заводе. Он мне рассказывал и о причинах забастовок в Питере. Таковых было множество, и в их числе - протест против Ленских расстрелов,учиненных капиталистами и царем. Хотя в 1912 г. я жил в большом городе, но, к моему сожалению, не помню, чтобы мне было известно уже тогда об этих расстрелах. Лишь в Херсоне, год спустя, я узнал от моего “питерца” об этой кровавой расправе с рабочими. Это он привел как пример того, в каком положении находился рабочий класс в России. Он же рассказал мне, что в Питере тогда, в 1912 году, было арестовано много рабочих металлистов, которые участвовали в сборе средств для семей убитых рабочих на Ленских приисках. Он говорил,что рабочие делали и должны были делать это из-за солидарности рабочих между собой, т.е. классовой солидарности.
К сожалению, не всегда и не все рабочие проявляли должную солидарность с другими рабочими. Вот один фактов. Как-то к обеденному перерыву я закончил укрепление на планшайбе станка эксцентричной детали. Придя с обеда и ничего не подозревая, пустил станок, чтобы начать обтачивать эксцентрик, но не тут-то было. Явные недруги в мое отсутствие ослабили крепление балласта, и вследствие этого хулиганского поступка чуть не получилась авария. Мой друг Михаил Федоров и тут показал свою пролетарскую сознательность. Он моментально пришел мне на помощь. Горечь от хулиганского поступка у меня довольно долго не проходила, тем более, что этот, с позволения сказать, хулиганский поступок совершен был по мотивам черносотенным. “Герой” хулиганства узнал, что я еврей. Этот антисемит решился на такую пакость, чтобы показать свою ненависть ко мне (он называл меня “хаим-токарь”). Однако его мерзкая попытка не увенчалась успехом. Отношение ко мне со стороны товарища Федорова не изменилось. Он продолжал свою воспитательную агитацию в пользу классовой солидарности, оказывая поло-жительное действие и на других рабочих цеха. В течение нескольких месяцев, пока работал на этом заводе, я подружился со многими рабочими, которые не последовали в своих отношениях ко мне упомянутому антисемиту.
Об одном случае, давшем мне возможность проявить признательность моему первому политическому наставнику, я хочу здесь упомянуть. Как-то однажды мой друг пришел на работу и тут же поведал мне, что плохо себя чувствует. Объяснил он свое состояние тем, что накануне гулял по поводу дня рождения своего земляка-питерца и выпил лишнего. Не будучи “опытным” в этом деле, он чувствовал головную боль. В то утро он должен был в срочном порядке приступить к обработке крупной детали паровой машины. Мы с Николаем Петренко (соседом Федорова по квартире) установили эту деталь на станок Федорова, а его уговорили отдохнуть в своем инструментальном шкафу. На случай, если “кровосос” (так мы называли хозяина завода Вадона) будет обходить свои владения и, проходя по цеху, спросит, где Федоров, мы, ближайшие соседи по станку, скажем. что он пошел резцы ковать. Для сведения несведущих должен сказать, что тогда сами токари ковали себе резцы. Прошло минут двадцать после того, как мы установили деталь, предназначенную для обработки нашим другом, когда в цехе появилась тучная фигура “кровососа”. Он двигался неторопливо, останавливаясь у каждого станка. Отсутствие тов.Федорова на месте (хозяин знал этого квалифицированного токаря) задержало заводчика, и он грозно спросил: “Где Федоров?”. Мы ответили так, как условились. Нахмуренный “кровосос” молча продолжал свой обход, а мы заметили, что из цеха он направился в сторону кузницы. Как только он вышел на двор завода, мы разбудили нашего друга, дремавшего стоя в своем инструментальном шкафу. Он, по его словам, был в состоянии приступить к работе. Ему ведь надо было только резец поставить, а это не так трудно, как установить деталь, да еще крупную. Рабочие токарного цеха стали в тот день свидетелями такого факта, какого до этого случая не приходилось наблюдать: спустя короткое время тучная фигура Вадона снова, уже во второй раз за это утро, появилась в том же цехе. Он злобно посмотрел на рабочих и, молча пройдя мимо станка Федорова и увидев его на месте, удалился в другие цеха, продолжая осуществлять свой хозяйский надзор над работой.
К этому первому1 в моей жизни херсонскому периоду относится еще один эпизод, о котором я хочу сказать несколько слов. В один из июльских дней начальник цеха привел ко мне молодого человека в форме с погонами (наплечниками) Петербургского политехнического института. Этот блестящего вида студент был определен практикантом на завод Вадона. Практику ему надлежало проходить во всех цехах этого, по тем временам не маленького, судостроитель-ного предприятия на юге России. До этого мне доводилось видеть студентов и с некоторыми даже быть знакомым в г.Одессе, но такого барина я еще не видел ни разу. Может быть, впечатление, которое он производил своей наружностью, объяснялось тем, что он был из самой столицы, из Петербурга, а может быть, этот столичный барчук нарочито подчеркивал свое превосходство перед провинциалами. Так или иначе, но приставленный ко мне практикант произвел на меня неприятное впечатление. Независимо от этого, я должен был ознакомить его с основными навыками токарного дела. Многому он не мог у меня научиться, но все же научился, как ставить резец и как ставить и менять шестерни на гитаре станка (есть такая часть), когда надо резцом нарезать резьбу. За время пребывания этого студента-практиканта возле моего станка я тоже кое-чему научился у него, узнал, чем дышит отпрыск петербургского фабриканта. В коротких разговорах со мной он восхвалял дом Романовых. Должно быть, побуждением для это были его свежие воспоминания о недавнем пышном праздновании 300-летия династии Романовых и объявлен-ной амнистии. Из истории России мне было известно об этих деспотах, которые триста лет пра-вили страной. О последнем тиране из дома Романовых — Николае II - мне рассказывал Федоров. Он говорил, что именно этот Романов являлся главным виновником расстрела рабочих на Ленских приисках в 1912 г.,а в 1905 г.- вдохновителем расправы с рабочими Красной Пресни в Москве.
Глава 2
По окончании каникул я уехал из Херсона, чтобы успеть к началу занятий. Не знаю, по какой причине, но занятия в нашем 4-м классе 1 сентября почему-то не начались. Казалось бы, можно немного отдохнуть, но не тут-то было, ибо поскольку занятия в классах не начались, получавшие бесплатное питание не могли кормиться в школе. У моих родителей едва хватало для четырех ребят моложе меня. Я воспользовался тем, что мастерские школы нанимали старшеклассников во время отсутствия занятий в классах, и поступил туда работать. Мастер цеха Георгий Петрович Балаш охотно взял меня на работу, и я продолжал зарабатывать на пропитание. Здесь в день давали не рубль, как в Херсоне, а 40 или 60 коп. Но теперь за квартиру платить мне не надо было, ибо я жил у своих родителей, и эти десятки копеек были каким-то подспорьем для них. Итак, время школьных каникул для учащихся, каким я тогда был, проходило для меня все время в работе. Что-нибудь за 5-8 дней до начала занятий мастер Балаш Г.П. отстранил меня от работы из-за стычки с ним по причине того, что я не выполнил его указания. Как помню, оно заключалось в том, что я должен был снять со станка уже установленную деталь и поставить другую. Я не захотел это выполнить. Тогда он оттолкнул меня от станка и сам установил ту деталь, которую счел более нужной. Этот случай почему-то вызвал у меня воспоминание о хулиганском поступке, имевшем место на херсонском заводе, о чем я уже писал. Хотя это действие мастера с тем поступком ничего общего не имело, по своей глупой ребячливости я подумал, что здесь сумею получить“реванш”. И я вступил в драку с мастером. Георгию Петровичу не стоило особого труда вытолкать меня из мастерской. В результате из-за желания получить “реванш” я деньков 5-8 до начала классных занятий вкушал прелести каникул - отдыхал.
В конце сентября начались занятия в классах и мастерских. Установился нормальный порядок: полдня занятий в классах, остальное время - в мастерских.Что касается учеников 4-го класса, они 2 или 3 дня в неделю полностью работали в мастерских. Я был допущен к тому станку, на котором работал учась в 3-м классе и на котором работал в качестве наемного ра-ботника в сентябре. Тогда не было такого порядка, чтобы ученики писали сочинения о том, как они провели каникулы. О моих последних ученические каникулах я написал здесь спустя более полувека. У меня имеется желание изложить здесь же и то, как прошли последние месяцы мо-ей школьной учебы. Они охватывают время от октября 1913 г. до мая 1914 года. Два события, имевших место в то время, остались (и останутся) в моей памяти навсегда.
В тот период в Одессе происходило множество забастовок рабочих разных предприятий. Известно, что после ленских событий 1912 года в рабочих массах России наблюдался ин-тенсивный революционный подъем. Подъем этот докатился и до Одессы. Неподалеку от ремесленного училища “Труд” помещалась мебельная фабрика Кайзера. Рабочие этой фабрики осенью 1913 г. бастовали. Нам, старшеклассникам, стало известно об этом. Многие из нас подумывали, как бы помочь бастовавшим. Я об этом рассказал при встрече моему знакомому А.З.Гольцману. Он сказал, что похвальное желание “трудников” (так называли в Одессе учеников нашей школы) можно осуществить, если они примут участие в распространении лотерейных билетов стоимостью в пять копеек каждый. Сумма. которая образуется от этой лотереи, будет отдана в кассу бастующих. Я сказал об этом своим соученикам - тем, которые желали помочь бастующим. Распространителей таких билетов оказалось довольно много, но прежде всего они сами приобрели таковые. Особую активность проявили в этой солидарности с бастовавшими Кангун М., Ходер В.М., Збарский Д.А., Криворук Я.Н., Фридман Л.,Гольдман А., Кузнецов А. Все эти товарищи моей ранней юности, к сожалению, уже не живы. Некоторые из перечисленных были активными участниками борьбы за власть Советов и заслужили стать персональными пенсионерами Союзного значения. Авраам Зиновьевич Гольцман похоронен на Красной площади в Москве. Он нему следует сказать подробнее, чем в обыкновенном примечании. В 1913 году в 19-летнем возрасте он, уже как революционер, был узником Одесской тюрьмы, из которой после годового заключения был амнистирован по случаю 300-летия дома Романовых, но вскоре был опять арестован и сослан в Нарымский край. После Октябрьской революции 1917 г. стал активным руководящим работником в профсоюзном движении, членом Центральной Контрольной Комиссии Коммунистической партии Советского Союза. Погиб он в авиационной катастрофе в 1933 году, будучи начальником гражданской авиации СССР.
Возвращаюсь к проявлению пролетарской солидарности будущих рабочих, но в 1913 году еще учеников ремесленного училища“Труд”. Кто-то из наших распространителей лотерейных билетов высказал мысль, что помощь бастующим может быть оказана не только этими пятачками, но и моральной поддержкой. Ведь мы, хотя и учащиеся, но 3/4 времени проводим в школе как рабочие у станков и верстаков, и нам также следует объявить забастовку. Пусть станет известно бастующим рабочим, что с ними солидарны “трудники”. (В скобках следует отме-тить, что было немало фактов участия трудников в революционной жизни Одессы. Это отмечается в ряде исторических документов. Известно, что соратник В.И.Ленина тов.Шотман А.В. в этой школе в 1907 году немало сделал для такого участия.) Не помню, чтоб мы собирались предъявить директору училища в качестве требований. Вряд ли что-нибудь вразумительное. Но на первом же нашем собрании для решения вопроса о забастовке (принимал участие на этом собрании весь 4-й класс) мы были вынуждены оставить подвал, в котором собрались, так как туда нагрянул директор со своей свитой и разогнал нас на свои рабочие места. Надо сказать. что наша затея была плохо подготовлена, и в результате, после того как директор (С.О.Штейнберг) покричал на нас, оказалось, что все приступили к работе. Когда я сказал ему, что нечего кричать, все равно работать не начну, он еще пуще раскричался и пригрозил исключением меня из училища. На следующий день он свою угрозу выполнил, и я вынужден был оставить училище, находясь уже в выпускном классе.
Мне тогда исполнилось семнадцать лет. В такие годы юноша меньше всего заботится о себе, но все же передо мной возник вопрос: “Почему я один оказался исключенным из школы?” Ответа я не мог найти. От всего этого я тогда испытал немало горечи, но вскоре она улеглась, так как я нашел работу на одном из одесских заводов (з-д Люльки). После сдачи пробы мастер положил мне 90 коп. в день. Такая оплата для 17-летнего парня в то время была немалой, однако то, что одновременно со мной токарь лет 30-ти, сдав такую же пробу, получил 1 р.10 коп. в день, вызвало во мне недовольство. Я об этом сказал мастеру. Тот и внимания не обратил на мой протест, а лишь буркнул: “Ты еще без усов”. Думать об уходе с этого завода я не хотел, ибо знал уже, что несправедливости к рабочим встречаются всюду, а к молодым особенно.
Положение исключенного было тягостное, в особенности из-за того, что несколько месяцев осталось, чтобы кончить школу и получить аттестат токаря-подмастерья (такой тогда выдавала ремесленная управа города). Но делать было нечего, и я уж свыкся с таким положе-нием. Не так реагировал мой старший брат, который в 1908 году кончил эту школу. В отличие от меня, он был на хорошем счету у администрации училища и поэтому решил обратиться с просьбой к директору об отмене решения о моем исключении. Некоторые преподаватели поддержали его просьбу (я хочу здесь добрым словом упомянуть преподавателя И.Д.Дуба), и меня в самом конце 1913 или январе 1914 года восстановили учеником школы.
Итак, я вновь очутился в среде моих товарищей, с которыми хотели устроить забастовку. Хотя, как я уже отметил, из этого ничего хорошего не получилось, но осталась дружба с активными распространителями лотерейных билетов, которые А.З.Гольцманом были вовлечены в кружок политического просвещения. Революционный подъем в России коснулся и Одессы, и в 1913 году там организовались такие кружки. В нашем были ученики школы “Труд”, мои одно-классники М.Кангун, В.М.Ходер, Д.А.Збарский и я. Руководил этим кружком человек, который носил фамилию Залкинд. Он нам рассказывал, что Российская социал-демократическая рабо-чая партия (РСДРП) выпускает в Петербурге две газеты: одну под названием “Правда”, другую под названием “Луч”. Он говорил, что каждая из этих газет отображает взгляды двух частей этой партии, которые называются фракциями. Этот рассказ завершался так: “Запомните: газету “Правда” выпускает большевистская фракция, “Луч” - меньшевистская фракция”. Эти знания мы получали во время занятий, что называется, “по текущей политике”. Вряд ли всё, что разде-ляло эти фракции, нам было известно и понятно, но вскоре наш кружок посчитал себя “правдистским”, и мы стали читателями этой газеты, а также ее распространителями. Помимо знакомства с “текущим моментом”, руководитель кружка читал нам странички из работы К.Маркса “Наемный труд и капитал”. Все это происходило на квартире, которая помещалась, по нынешним названиям, на ул.Чижикова между ул.Ленина и ул.К.Маркса
Занятия в кружке как-то неожиданно прекратились. Это произошло то ли оттого, что вы-следили частые посещения этой квартиры одними и теми же молодыми людьми, то ли по дру-гой какой-то причине. Помню, как однажды во время занятий в комнату Залкинда вошел незна-комый нам человек, и руководитель кружка сразу оборвал тему нашей беседы, перейдя на раз-говор о деятельности компании Зингера. Очередное занятие кружка после упомянутого случая не состоялось, так как придя к Залкинду мы не застали его дома. И больше уже никогда не видели. Жена Залкинда нам сказала, что он исчез и она не знает места его нахождения. Не знала, куда делся Залкинд и Фаня Тейтельбаум (большевичка с 1912 г.), которой было известно о существовании нашего кружка. (С Тейтельбаум я работал в большевистском подполье в 1918 г. в Одессе и до ее смерти в 1932 г. временами встречался с нею. Она умерла в Ленинграде.)
Давно уже шел 1914 год. Надо было основательно готовиться к выпускным экзаменам. Ведь я порядочно отстал из-за того, что был исключен. Крепко помогал мне мой товарищ по классу. Возможно, что только поэтому я запомнил его. Его фамилия была Торговицкий. По-моему, он ничем не выделялся в школе, но он мне оказал большую помощь тем, что в его отдельной комнате можно было без помех заниматься школьной программой. Экзамены кончились для меня благополучно, и в мае 1914 года я получил аттестат об окончании училища и свидетельство от ремесленной Управы, что являюсь подмастерьем по профессии токаря по металлу. По правде сказать, ни разу не доводилось мне пользоваться этим свидетельством, да и не знаю до сих пор, для какой цели оно выдавалось.По сложившимся обстоятельствам, у меня не сохранилось ни это свидетельство, ни аттестат. Только имеющееся у меня общее фото окончивших эту школу может подтвердить, что я окончил училище“Труд”. Десятки лет прошли, но я до конца своей жизни буду с благодарностью вспоминать моего взыскательного учителя - мастера Е.М.Ольшанского, привившего мне любовь к труду и к моей профессии токаря по металлу. В очень тяжелые годы жизни эта профессия сыграла ре-шающую роль в том. что я выжил, но об этом расскажу в соответствующем месте этих моих записей, а сейчас продолжу о том, какие пути меня ожидали непосредственно после школы.
На предыдущей странице я писал, что директор С.О.Штейнберг осуществил свою угрозу и исключил меня из школы. Тот же самый Штейнберг, как только я получил выпускные документы, просил меня явиться к нему. Не помню, как дошла ко мне его просьба, но я решил вы-полнить ее, хотя злоба на него, как на инициатора моего исключения,.у меня осталась. Когда я явился к нему, он меня поздравил с хорошими отметками на выпускных экзаменах и как-то вдруг спросил меня, встречаюсь ли я с Кангуном. Мой утвердительный ответ его не удивил. Он знал. что дружба между нами - не только дружба школьных товарищей. Не совсем понимая, к чему клонит разговор мой бывший директор, я у него спросил, для чего он меня вызвал. Он мне ответил, что хочет, чтобы я еще раз пришел к нему вместе с М.Кангуном. После этого наш разговор завершился тем, что я обещал выполнить и эту просьбу. С Кангуном я продолжал дружить со времени совместного пребывания в социал-демо-кратическом кружке. Мы встречались с ним и после экзаменов. Я рассказал ему о предложе-нии нашего бывшего директора. Немного подумав, мы решили отправиться вместе к Штейнбергу, не теряя времени на разгадывание причин вызова нас к нему. У нас были основания удивляться этому вызову, во-первых, потому, что, как нам было известно, никого больше из окончивших с нами училище директор к себе не вызывал, а во-вторых, со времени неудавшейся нашей забастовки отношения директора к Кангуну и ко мне были далеко не “отеческими”. Разговор, начатый Штейнбергом, когда мы явились к нему, был коротким и закончился тем, что он назвал нас, то есть Кангуна и меня,“слишком резвыми парнями” и сказал, что, по его мнению, нам не следует оставаться в Одессе.
Если слова директора о нашей резвости не особенно тронули нас (а меня совсем, потому что, к сожалению моему, я никогда не был резвым, да еще “слишком”), то его мнение, что нам “не следует оставаться в Одессе”, заставило, хотя нам было по 17 и 18 лет, крепко задуматься... Нетрудно было догадаться, чтó имел в виду наш “доброжелатель”. Для одесской полиции не было секретом, что в училище “Труд” возникали и развивались революционные настроения, и для пущей бдительности кое-кого из более или менее активных носителей этих настроений можно было взять под полицейский надзор. Получилось, что нам, молодым парням, едва ставшим подмастерьями, пришлось сразу же начать размышлять относительно житейских условий царской России.
Не знаю, как предполагал М.Кангун устраиваться по окончании училища, я же собирал-ся опять наняться на завод Люльки, где работал в конце 1913 г. Завод этот был расположен неподалеку от квартиры моих родителей, где я жил. Кроме того, на этом заводе мне знаком был ряд людей. Все эти привлекательные стороны отпали, когда я услышал, что не следует мне “оставаться в Одессе”. Директор предложил нам свое рекомендательное письмо к его знакомому в г.Баку. Мы с Кангуном решили принять это письмо и уехали в Баку.
Глава 3
Итак, что-нибудь в начале июня 1914 года я оказался в крупном промышленном городе, где пролетарское движение занимало большое место в общем революционном подъеме тогдашней России. Известно, что незадолго до начала 1-й мировой войны вспыхнула знаменитая Бакинская забастовка. К началу ее мы уже работали на заводах, расположенных в Балаханах: я - на заводе подрядного бурения, принадлежавшем братьям Романовым, Кангун - на другом, соседнем заводе. Рабочие этих заводов, и мы в их числе, примкнули к забастовке рабочих нефтяных промыслов. Причин для забастовки было множество. Кроме бешеной эксплуатации, которой подвергались рабочие промыслов, они еще жили в отвратительных скученных барачных условиях. Ожесточение против Манташевых1 и русских капиталистов было огромное. Следует сказать, что эксплуататоры разных национальностей старались это ожесточение использовать и направить в сторону разжигания национальной вражды между рабочими-азербайджанцами, или, как их тогда называли. тюрками, и рабочими других национальностей. Царские власти (ген.Мартынов, тогдашний градоначальник Баку) немало помогали бакинским капиталистам в этом их грязном деле. Противодействовать межнациональной грызне, сплачивать все пролетарские силы против капиталистов и царской власти - такова была цель революционной части рабочих. На достижение этой цели направляла газета “Правда”.“Большевистские организации национальных районов России вели борьбу против националистических партий и течений, воспитывали массы в духе пролетарского интернационализма” (История КПСС, стр.168, изд.1959 г.) Во время этой забастовки мы с Кангуном занимались скромным делом, а именно, распространяли газету “Правда”. Ведь мы считали себя правдистами уже с 1913 года. Не раз мы проводили читку этой газеты рабочим нефтяных промыслов, среди которых больше всего было неграмотных. Помимо нас разговоры и беседы с этими рабочими вел табельщик завода, на котором я работал. До сих пор помню фамилию этого человека - вероятно, потому, что она напоминала о вкусных яблоках “шафран”. Этот Шафран был старше нас, но рабочие почему-то больше слушали нас. Они знали. что мы тоже рабочие, хотя и не занятые на таких же тяжелых работах на промыслах, как они. После нескольких встреч с ними мы уяснили, что нас слушали охотнее, чем Шафрана, и по другой причине: он был меньшевиком и поэтому всячески старался сглаживать проявление ненависти рабочих к своим хозяевам и властям. Очень четко это обнаружилось в следующем случае. Петербургские власти были сильно встревожены массовыми забастовками,прокатившимися тогда по стране. Царское правительство принимало немало мер для подавления их. В Баку был послан генерал Джунковский, тогдашний заместитель, или, как тогда называлось,“товарищ” министра внутренних дел. Этот почти главный полицейский чин России имел цель подавить бакинскую забастовку, ибо его ставленник - Мартынов - не сумел этого сделать.Мартынов все же хотел еще раз попытаться без Джунковского уговорить рабочих приступить к работе. В один из дней стало известно: Джунковский приедет в Балаханы.На пустыре за Манташевской улицей собрались бастующие рабочие. К своему удивлению, они увидели, что к ним подъехал не министр из Петербурга,а известный им бакинский градоначальник. Гарцуя на коне, он требовал,чтобы рабочие прекратили забастовку. Рабочие на это требование ответили дружным свистом и громкими словами: “Не надо нам маклеров, пусть Джунковский сам явится!” Должно быть, наиболее активные организаторы забастовки - большевики - были осведомлены о том, что Джунковский не явится, и поэтому была обеспечена такая встреча “своего” градоначальника. Мы с Кангуном стояли среди знакомых нам рабочих. Тут же расхаживал упомянутый Шафран, и мы слышали и видели, как он подходил к рабочим и советовал им прекратить свистеть и выкрикивать свои требования. Вот как примиренчески действовали меньшевики в самые острые моменты классовой революционной борьбы. Много десятков лет прошло после начала знаменитой Бакинской забастовки Других подробностей не осталось в моей памяти, это для меня прискорбно, но это так. Материалы о героической борьбе бакинских рабочих в 1914 г. надо искать. История российского революционного движения много приобретет от этих поисков. Царская Россия, кинувшаяся в первую мировую войну,помимо прямых империалистических целей, одновременно намеревалась подавить революционный подъем рабочих. Эта, вторая цель, хотя и частично, была достигнута при помощи шовинистов разных мастей, в том числе и меньшевиков и эсеров, занявших оборонческую позицию.В Баку шовинистический угар смешался с натравливанием людей разных наций друг на друга. В результате было много человеческих жертв среди армян и азербайджанцев (тюрков). Нефтяные магнаты добились того, что забастовка прекратилась,а рабочие так и не получили удовлетворения своих справедливых требований. Самый цвет из рабочих должен был надеть солдатские шинели и стать пушечным мясом. Многих рабочих увольняли, главным образом тех, кто были приезжими из России. Среди уволенных оказались и мы с Кангуном. Нам, только-только ставшим рабочими, предстояла новая дорога в жизнь - искать работу.
Не могло быть и речи о возвращении в Одессу. Ведь мы запомнили слова нашего директора, что из-за нашей “резвости” в Одессе нам ничего хорошего ждать там нельзя. Теперь, после того, как мы приняли участие в Бакинской забастовке, это предупреждение приобрело какой-то реальный смысл.
Из Баку мы уехали в Ростов на Дону. Такой выбор мы сделали потому, что, как мы знали, в этом городе живут родители одного нашего школьного товарища - Бондарева. Бондарев этот хвастал в школе (он был довольно чудаковатый) тем, что кто-то в их роду был николаевским солдатом и благодаря этому родители его имели право жить в Ростове на Дону, где евреям нельзя было жить. Отмечаю этот факт как бы между прочим. Итак, мы в запретном для евреев месте, надеясь, что все же токарям по металлу здесь будет можно поступить на работу. Эта надежда не осуществилась. Когда мы изложили ее родителям нашего соученика Бондарева, они тут же нас предупредили, что ничего у нас не выйдет, ибо мы не потомки “николаевских солдат” (речь идет о Николае 1). Это сухой факт, и если его выжать, то пусть не кровь, но слезы из него потекут.
Мы не пролили ни одной слезы по этому поводу и уехали, что называется, в “черту оседлости”. В городе, куда мы приехали (Полтава), было лишь одно металлообрабатывающее предприятие - паровозостроительный завод. Мы могли предположить,что на этом, довольно крупном для тех времен предприятии, найдутся места для нас. Ведь токари были не очень массовой профессией, особенно в провинциальном городе. В день приезда нам посчастливилось подыскать себе квартиры. Отдохнули пару дней после переезда из Баку и Ростова. В Баку мы получали довольно высокую заработную плату по сравнению с таковой, какая была в России, и поэтому кое-какие сбережения у нас были.Погода, стоявшая в Полтаве в сентябре 1914 года, позволяла любоваться этим городом, который нам казался городом-садом.
Но мы ведь не для этого приехали - надо было думать о работе и найти ее. Это оказалось,после первых же попыток, невозможным. В данном случае не потому, что в этом городе нельзя было жить еврейским рабочим. Полтава входила в черту оседлости, но... паровозоре-монтный завод принадлежал Министерству путей сообщения царского правительства, а в предприятия этого министерства евреев на работу не принимали. Существует украинская поговорка, по-русски она звучит примерно так: “Не умер Данило, его болячка задавила”. Умирать мы не умерли, но капиталистическая болячка - безработица - нас начала давить. Мы еще продолжали жить в этом городе несколько дней, полагая, что где-нибудь найдем работу по своей профессии, но ничего не получилось. Решили уехать в один из уездных городов Полтавской губернии - в Кременчуг.
За день до отъезда, гуляя по одной из улиц Полтавы, мы увидели двигавшуюся по мостовой толпу людей с хоругвями и портретом Николая II. В те дни одурманенный народ России такими шествиями проявлял свои верноподданнические чувства. Наши с Кангуном чувства уже давно были иными. Это нам, молодым ребятам, и захотелось проявить. Возможно, такое желание было ребячеством, но ведь мы и были пока в таком возрасте (мне 18, а моему другу - 17 лет), хотя уже в положении безработных. Решение было принято на ходу, в буквальном и переносном смысле этого слова. Оно выразилось в том, чтобы поравнявшись с шествием не снять головных уборов. Мы знали о “крамольности” такого поступка, но не предполагали, что эта наша “демонстрация” вызовет сильную реакцию. Кто-то из шествующей толпы увидел, что по тротуару идут парнишки, не снявшие головных уборов. Не успели мы достаточно удалиться от шовинистического шествия, как увидели погоню за нами и услышали крики “шапки снимать”. Мы не могли рассчитывать на чудо остаться не избитыми, а поэтому пустились бежать. Вряд ли это бегство можно назвать постыдным. Ведь мы двое не могли оказать должное сопротивление этой толпе, и если бы не увидели погоню за нами своевременно, то за проявленную нами “резвость” поплатились бы своими боками. Мы использовали поговорку: “Не доглядишь оком - заплатишь боком”.
На этом наше гуляние в Полтаве закончилось. Придя в свою квартиру и собрав наши пожитки в чемоданчики, мы в тот же день уехали в Кременчуг. В Кременчуге нам с Кангуном довольно быстро удалось наняться на работу, Я устроился токарем в механическую мастерскую крупной мельницы, принадлежавшей кременчугскому капиталисту Амстиславскому, Кангун - инструктором в ремесленное училище. Мы поселились на Троицкой улице в одной комнате. Квартирная хозяйка согласилась, чтобы мы у нее столовались. Мы довольно сносно устроили нашу жизнь после немалых треволнений, сопутствовавших нам в течение нескольких месяцев после окончания нашей учебы. Работа нас устраивала, да и условия были неплохие в немногонаселенной квартире, в которой мы жили.
Глава 4
Теперь для нас установилась более или менее спокойная жизнь, но неспокойно было вокруг нас. Война длилась уже много месяцев. Это не могло не отразиться на всем окружающем. Недовольство войной охватывало трудящихся все больше и больше, ибо изо дня в день цены на продукты питания и другие товары увеличивались, заработная плата вследствие этого понижалась. По городу то в одной, то в другой мастерской вспыхивали забастовки. В начале 1915 г. забастовали рабочие мельницы Амстиславского, требуя увеличения заработной платы. Вожаками забастовки среди мельников стали немногочисленные металлисты, работавшие на этой мельнице, - слесаря и несколько токарей. Хозяин мельницы Амстиславский счел за лучшее рассчитать всех металлистов, полагая. что этим задушит забастовку. Но не так по-лучилось, как полагал капиталист. Забастовка продолжалась, и мельники - основные рабочие мельницы - добились победы: заработную плату им увеличили. Но нас, металлистов, обратно на работу так и не приняли. Классовое сознание у рабочих мельницы еще не было на должной высоте, и они ограничились тем, что получили прибавку к своей скудной зарплате и приступили к работе, не заботясь о том, чтобы и нас восстановили на работе.
Некоторое время я продолжал жить в Кременчуге и каждый день (в особенности по утрам) проводил в поисках работы. Но эти поиски оказались тщетными, и мне опять пришлось пуститься в путешествие. Я уехал в Одессу. Шел уже 1915 год. В Одессе тогда работу было найти нелегко. Такое положение было у меня, что был готов выполнять любую работу, лишь бы заработать на жизнь. Я даже согласился тогда продавать газеты, чем и занимался две или три недели. (Если случится, что эти мои записки будет читать какой-нибудь одессит моего поколения, то для его сведения скажу, что газетку “Одесская почта” я не хотел продавать из-за ее бульварности, а“Одесские новости” и, в особенности, “Маленькие одесские новости” я усиленно предлагал покупателям, считая эти газеты более прогрессивными. Что касается“Одесского листка”, то, как ярко выраженную буржуазную, кадетскую газету, я старался, чтобы ее не приобретал никто из моих покупателей. У меня такие уже образовались, поскольку по утрам с пачкой газет я обычно стоял в определенном месте города.) Из меня продавца газет не получилось, и я вскоре оставил это занятие.
Что-нибудь в феврале или марте того года я поступил работать в Одесские трамвайные мастерские. Меня приняли туда как токаря, но с условием, если соглашусь работать на очистке снега. Я согласился, ведь завал снега в Одессе дело временное. Когда необходимость в уборке снега кончилась, администрация мастерских не выполнила свое обещание поставить меня к токарному станку, а предложила работать в канавах, над которыми ремонтируются трамвайные вагоны. Это означало проводить не ремонт вагонов, а чистку пода вагонов от мазутной грязи. Я вынужден был согласиться и на это. После такой, тяжелой и грязной работы, на которой провел не менее месяца, меня допустили к станку. Я в какой-то мере ожил. Наступила возможность внимательно оглядеть окружающие меня порядки. Порядки в трамвайных мастерских были не такие, как на предприятиях, в которых я работал раньше. Они были сугубо строгие. Эти мастерские принадлежали бельгийскому акционерному капиталу. Держимордой у этих акционеров служил инженер Левин. Он отличался исключительной свирепостью. Стоило ему заметить малейшее нарушение установленных им правил, как он тут же давал распоряжение об увольнении.
Не могу не вспомнить случай, происшедший с одним из однофамильцев этого ставлен-ника бельгийских капиталистов. Через один станок от моего работал молодой парень,тоже по фамилии Левин. Однажды во время обхода главным инженером мой сосед стоял возле автогенщика и смотрел, как тот производит сварку. Тогда автогенная сварка была новшеством, и парень позволил себе отойти от станка, чтобы поинтересоваться этим новшеством. Главный инженер, увидев токаря возле автогенного аппарата, тут же распорядился уволить своего однофамильца. Наше возмущение было очень велико, но конкретно на этот произвол мы никак не реа-гировали. В разговоре со вторым моим соседом, Николаем Савиным, мы излили друг другу свое возмущение и при этом отметили, насколько сильно различаются интересы хозяина и рабочего, даже если они носят одну фамилию и принадлежат к одной национальности. Этот уволенный Яков Левин (я его знал, так как учились вместе в ремесленной школе) был из таких молодых рабочих, которые считали, что сплочение людей должно происходить по принципу национальности. Когда он оказался за воротами по такой незначительной причине, то понял, что ошибался. Описанный факт - один из многих, приведших меня к большевикам.
Мне хочется упомянуть здесь о рабочем Саше Златопольском, работавшем в другом цехе. Мы с ним виделись не так часто, как с Николаем Савиным, но когда встречались на выходе из ворот трамвайных мастерских, у нас завязывался разговор по поводу войны, которая продолжалась вот уже год, то о тяжелом режиме в наших мастерских. О случае с Яковом Левиным он уже знал. Так или иначе, в наших разговорах мы оба старались показать друг другу, что не можем быть безучастными, т.е. равнодушными к событиям, происходящим вокруг нас. Это обоюдное “небезразличие” к окружающей нас действительности, а также одинако-вые ее оценки, рождало в каждом из нас уважение друг к другу. Хотя по возрасту мы были, ви димо, ровесники, но к Саше Златопольскому я относился как-то с особым почтением. Можно объяснить это тем, что он был очень рослый, крепко сложенный и никогда за словом в карман не лазил. Я не обладал этими качествами, но все же он давал мне понять, что относится ко мне также с уважением. По его словам, это объяснялось тем, что я по профессии токарь. Как бы то ни было, наше взаимное уважение сблизило нас. Для этого была еще одна причина. Нас с ним должны были одновременно призвать на военную службу. В то время царское правите-льство проводило три досрочных призыва в армию. Нехватало пушечного мяса. Мне не при-шлось пополнить эту нехватку, так как оказался недостаточно здоровым. Не помню, как сложилось у Саши это дело, но после призыва мы с ним расстались. Не думали мы тогда, что встретимся в январе 1918 года в рядах Красной Гвардии, но об этом в своем месте этих строк. Известно, что никогда не удается написать так, как хочешь, а только так, как можешь. Вот и я пишу как могу.
Глава 5
В конце 1915 года я уехал из Одессы в город Бердянск. В мои молодые годы менять место работы не считалось зазорным. По-моему, небезосновательно такие переезды расценивались как расширяющие кругозор рабочих. В Бердянске я был принят на машиностроительный завод, принадлежавший капиталисту Горохову. На заводе работало человек 500-600. Для того времени это было довольно крупное предприятие. Оно еще более расширилось потому, что заводчик получил военный заказ, и надо полагать, выгодный для него. Было какое-то время, когда заработная плата на этом заводе была несколько выше обычной. Такое положение длилось недолго, ибо местные торговцы, учуяв повышенную платежеспособность рабочих, тут же подняли цены на предметы первой необходимости. Таков закон в капиталистическом обществе. В результате не только ничего не выиграли рабочие завода Горохова, но и другие рабочие этого городка оказались в худшем положении.
Несмотря на, казалось бы, неплохой заработок, мне не представлялось возможным снять для себя отдельную комнату, а пришлось поселиться еще с одним рабочим, приехавшим (по эвакуации) из Варшавы. Этот был человек 30-35 лет по фамилии Ковальский. По его словам, в Варшаве он состоял в анархистской организации. Помню, что он никак не мог объяснить мне, как это он совмещает свои анархистские взгляды с тем, что состоит в организации - ведь таковая предусматривает определенную дисциплину, которую анархисты вообще не признают. Мне, 20-летнему парню, было невдомек, что “взгляды” анархистов являются по существу мелкобуржуазным бунтарством. Бунтарство свое мой напарник по комнате очень ярко проявил в том, что, несмотря на наш уговор по очереди убирать комнату, часто нарушал его, объясняя это тем, что не признает никакой дисциплины. Такой анархизм выглядел довольно смешно. К тому же этот Ковальский всячески кичился тем, что он поляк.
Как ни странно, но “архиреволюционность” Ковальского совмещалась с оборонческими взглядами. Это обнаружилось на сходке рабочих, которая состоялась весной 1916 года. В Бердянск из Петрограда приехал представитель большевистской партии (к большому моему сожалению, я не знал его фамилии). На сходке этот товарищ изложил точку зрения большевиков на происходящую войну и их позицию в вопросе о военно-промышленных комитетах. На сходке был и Ковальский, который молча слушал петербуржца. Когда после сходки мы вернулись на свою квартиру, мой компаньон по комнате завел со мной разговор о выступлении, которое мы только что слышали. Ковальский был по-воробьиному суетлив.Он и обликом чем-то напоминал воробья. Не мог он спокойно говорить о том, что услышал от агитатора. Мысль о том, что рабочие должны желать поражения правительств тех стран, в которых они (рабочие) живут, отвергалась Ковальским категорически. Для анархиста, каким он себя считал, это означало, что он больше никогда не увидит Варшаву, которой восхищался и по-своему любил (Варшава тогда входила в состав Российской империи). Мне тогда было трудно объяснить ему, что любовь к Варшаве и желание поражения правительству России вполне совместимы. Но помощь мне пришел мой сменщик тов.Мельников, который зачем-то зашел к нам (он в это время не работал из-за полученной травмы руки). Иван Николаевич Мельников был старше меня лет на десять. Из бесед, которые бывали между нами, я чувствовал, что передо мной вполне сознательный пролетарий с установившимися политическими взглядами. Спустя несколько дней после упомянутой сходки и нашей беседы Иван Николаевич был арестован. Помимо Мельникова, были арестованы еще несколько рабочих завода Горохова. Многочисленные аресты не могли не вызвать недовольство и возбуждение рабочих,приведшие к объявлению забастовки. К сожалению, она не была хорошо подготовлена и поэтому длилась недолго.Хозяин завода позаботился,чтобы многих рабочих, имевших бронь от призыва, лишить этой брони. Власти не замедлили забрать этих людей в армию. Кроме того, чтобы “очиститься” от “смутьянов”, заводчик уволил многих рабочих, так как значительная часть военных заказов была выполнена. Среди уволенных был и я.
Мне тогда (1916 г.) уже минуло 20 лет. Оказавшись без работы, в этом маленьком городке Бердянске было плохо, но не так, как семейным рабочим. Ведь в этом городке был только еще один заводик, и поэтому многие отправились в близлежащие промышленные районы (Б.Токмак и др.). Я предпочел уехать обратно в Одессу. Мне удалось, и довольно скоро, поступить работать на крупный судоремонтный завод Белино-Фендерих. Работа здесь для меня бы-ла интересная. Каждый день доводилось обрабатывать разные детали, а это для токаря-уни-версала очень полезно с точки зрения повышения квалификации.
Итак, я в своем городе, среди своих родных и товарищей. На новом для меня заводе я приобрел и новых товарищей. В числе последних были два брата - Петр и Демьян Марченко. Эти Марченко оставили в моей памяти след по разным причинам. Одна из них та, что они очень внимательно слушали мое повествование о сходке в Бердянске, на которой агитатор со-ветовал рабочим быть “пораженцами”. Для них это было созвучно с теми разговорами, которые велись по поводу образовавшихся военно-промышленных комитетов. По словам Петра Марченко (он был строгальщиком), многие рабочие говорят, что не следует участвовать в этих ко-митетах, а некоторые его знакомые говорят, что надо в этих комитетах иметь представителей рабочих. О том, что отношение к военно-промышленным комитетам должно быть отрицатель-ным, мне было известно еще год до знакомства с фендроховцами. Такого же мнения держался и Саша Златопольский из Одесских трамвайных мастерских. Мои новые товарищи Марченко не имели своей точки зрения по этому вопросу. Они не причисляли себя к революционерам, но вдумчиво и подчас сочувственно относились к тому, что говорили революционно настроенные рабочие. Это меня привлекало к ним. С одним Марченко - Демьяном, - который работал на лобовом станке, мне удавалось и во время работы говорить понемногу. Наши станки стояли близко.
По мере увеличения потребности в снаряжении армии боеприпасами этот судоремонтный завод стал загружаться изготовлением таких припасов. Даже отдельные цехи полностью превратились в снарядные. Цех, в котором я работал, все еще продолжал выполнять работы по ремонту судов. Но однажды, придя на работу, я застал своего сменщика еще склоненным над станком, точнее, над обрабатываемым изделием, закрепленным в передней бабке. На мой вопрос, почему станок еще не убран, мой сменщик, Иван Арбузов, ответил, что дожидается меня, так как по распоряжению “мартышки” (так был прозван наш мастер Мартынов) мне надл-жало продолжать обрабатывать начатое им, Арбузовым, изделие. При этом Ваня сообщил мне, что ему пришлось всю смену, в отличие от всех прошлых, выполнять эту новую работу. Стало ясно, что и станок, на котором мы работали, тоже перевели на изготовление боеприпасов. Работа (нарезка резцом резьбы в очке снаряда) была в те времена довольно сложная, но все же однообразная,и, главное, выполнять эту работу означало работать ”на оборону”, что было несовместимо с моими взглядами. О том, что я был таковым, в цехе знали немногие, но мои т.т. Марченко были среди тех, кто знал это. Это обстоятельство поставило меня в трудное положение. Как же я могу выполнять работы, прямо идущие на оборону, и одновременно чис-лить себя пораженцем? Выход из этого положения я нашел в том, что отказался выполнять работу по нарезке резьбы в снарядах. По своей молодости, я не предполагал, что меня за это уволят, но по инициативе мастера Мартынова меня тут же уволили. В проявлении такой инициативы “мартышке” не помешало даже то, что он выдавал себя за социал-демократа. Правда, при этом он подчеркивал принадлежность свою к меньшевикам. В таком качестве ему нетрудно было стакнуться1 с реакционной администрацией з-да “Белино-Фендерих”. Через пару деньков у проходных завода я встретил братьев Марченко, Они мне поведа-ли, что мастер целый день носится по цеху от станка к станку и требует исключительно интенсивной работы для обеспечения срочных заказов по обороне. Эти мои товарищи в цехе не слыли сочувствующими революционным делам рабочего класса, но теперь, во время встречи со мною за воротами завода, поговаривали, что, пожалуй, всем рабочим надо становиться пораженцами. Хотя их и преследуют, “как тебя, Сема”, - говорили они. Мне довелось увидеть этих моих друзей еще один раз - у входа на завод с Софийского спуска. При прощании старший Марченко - Петро - сказал, что не следует мне появляться в районе завода, так как вокруг шныряют шпики, которые следят за всякими “подозрительными”. Оказывается, с завода и из других цехов были уволены, как пораженцы, еще человек 5-7. О слежке за “подозрительными” сказали мне и другие товарищи, бывшие одноклассники по ремесленному училищу, - Гарбер, В.Ходер и Д.Збарский. Я счел за лучшее уехать из Одессы.
Я не помню, чем было вызвано мое решение ехать в Киев. Может быть, тем, что в этом городе жил мой двоюродный брат, может быть, чем-то другим, но так было, что избрал этот город. Довольно скоро я убедился, что зря сделал такой выбор, ибо работу там не нашел, и, побыв в нем недели две (благо не пришлось платить за квартиру, так как ночевал у моего родственника), я уехал оттуда в г.Умань, после того как прочел в одной киевской газете, что в Умани требуются токари. Я пришел по адресу, указанному в той газете, и меня приняли на завод (точнее - заводик), принадлежавший местному предпринимателю по фамилии Файнштейн. Это место (и город и завод) ничем не было похоже ни на одно из с предыдущих мест, где я работал. Да и рабочие этого предприятия чем-то отличались от тех, с кем мне приходи-лось работать раньше. Главным образом это выражалось в их отношении к Файнштейну. Теперь, спустя почти пятьдесят лет, я называю эти отношения похожими на патриархальные. Этот Файнштейн старался (и это у него получалось) выглядеть перед своими рабочими так, как будто он является для них благодетелем, и все 200 или 300 рабочих его предприятия должны быть безмерно благодарны ему за то, что он их “кормит”. Мне дико было смотреть на эту покорность со стороны рабочих, и должен признаться, что не пытался тогда как-нибудь дать об этом знать моим товарищам по работе.
Реальная действительно, однако, внесла и в эту среду такие изменения, что отноше-ния переменились. Из-за продолжавшейся войны деньги обесценивались, а продукты питания, следовательно, все дорожали. Это крепко почувствовали “благодарные” рабочие. Что касается “благодетеля”, то он и виду не подавал, что замечает это, и нечего говорить о том, чтобы он сам пошел на увеличение заработной платы. Без инициативы рабочих это не могло произойти, и вот такая инициатива появилась у одного чертежника, работавшего на этом заводе. На фоне тогдашней уманской жизни это был, так сказать, интеллигентный человек. Я запомнил его фамилию и имя - Давид Попок.
Этот Попок начал будировать рабочих, что нужно потребовать у хозяина увеличения заработной платы. Нашлись отважные смельчаки, которые отозвались на инициативу Попока. Таких было человек пять, в их числе был и я. В какой-то декабрьский день мы зашли в “кабинет” Файнштейна и заявили ему, что рабочие уполномочили нас просить увеличить им заработную плату. Хозяин сидя выслушал нас и, назвав четырех по их именам, предложил им немедленно отправиться к своим местам работы, а меня,хоть и тоже знал мое имя, назвал смутьяном и тут же рассчитал с завода. Так проявилась эта патриархальность в конце 1916 г. в Умани. Хотя в этом городке я полюбил одну девушку (гимназистку), и даже испытал теплоту ее губ, но остаться в городе я не мог, ведь это означало быть безработным. В том же месяце я уехал обратно в Киев.
На поиски работы в Киеве ушли недели две-три. С утра у ворот металлообрабатывающих предприятий (тогда был такой“порядок”для рабочих), в дневные часы и до быстро наступающего вечера я проводил время в библиотеке, помещавшейся на стыке Крещатика и Печерска, а ночевал у двоюродного брата на Межигорской улице. Плату за квартиру в это время безработицы мой родственник с меня не брал, да и платить мне было не с чего. Хотя хлеб стоил тогда 2,5-3 коп. фунт, но и его я не всегда мог купить. Это кажется неправдоподобным, но так было в царской России.
Распространено мнение, что при описании воспоминаний даже самые тяжелые моменты уже не кажутся такими тяжелыми. По-моему, это неправильное мнение. Прошло много лет с тех пор, как имели место факты, о которых я здесь повествую, но как только вспомню их, так весь разум, все мое существо содрогается от этого. Как не придти к такому выводу, когда молодой человек, которому только шел 21-й год, имея неплохую профессию, да и неплохо зная ее, все же не имеет средств, чтобы купить фунт черного хлеба!
Как-то я узнал, что в районе, где находились трамвайные мастерские (на Димеевке) в одном из домов находится учреждение, которое оказывает помощь безработным. Видимо, это была легальная или нелегальная биржа труда. Я пошел туда и, действительно, получил там какую-то сумму денег. Для меня это было очень кстати, но самое главное было то, что я там же получил адрес предприятия, которому нужны токари, и меня заверили, что обязательно примут на работу. Вероятно, в тот же день я отправился туда, а именно на Константиновскую улицу, и нашел это предприятие. Оно называлось завод по ремонту с/х орудий Киевского товарищества западных земств. Я был весьма рад тому, что без особых проволочек меня там приняли на работу на этот завод, да и тому что эта улица была сравнительно недалеко от Межигорской, где я жил.
Новый, 1917 год я встречал не как безработный, но не полагал, что этот год принесет столько нового для рабочего класса и для всей России. На этом заводе Киевского товарище-ства западных земств меня застала февральская революция 1917 г.
------
Рассказ о своей "революционной" жизни автор закончил в 13-й главе своего труда. Пришла пора вернуться к ней и проследовать по дальнейшему 19-летнему отрезку этой жизни.
------
Глава 13 (продолжение)
Один за другим пролетели четыре года революции, четыре года беспрерывной борьбы за достижение цели, к которой стремился классово-сознательный пролетариат и каждый пролетарий, связавший свою жизнь с настоящей его политической партией, руководившей этой борьбой, - партией большевиков. Мне посчастливилось. На своем пути довелось видеть и слышать вождя нашей партии - В.И.Ленина. К большому сожалению, не очень много людей осталось в живых, коим такое счастье выпало. Не преувеличу, если скажу, что мой дальнейший путь оказался ярко освещенным образом и предельно ясными речами В.И.Ленина. Ведь в течение целой недели с 22-го по 31 декабря я каждый день видел и слышал Ильича на 8-м съезде Советов. (Считаю, что здесь не место для описания того, что на нем происходило. Об этом много написано и каждому предста-вляется возможность узнать. Всем известно, что на этом съезде был принят план электрификации нашей страны, названный В.И.Лениным второй программой коммунистической партии Советского Союза.) В эти декабрьские дни 1920 года в Москве я очень много узнал, во много раз больше того, что знал до сих пор как работник партии большевиков. Должно быть, рабочие Одесской табачной фабрики, перед которыми я отчитался по приезде со съезда, имели основание говорить между собой (да и при мне), что “наш фабричный токарь за время съезда Советов еще больше подковался как большевик. Недаром мы его послали в качестве нашего посланца” (см.парт.архив Одесского обкома, фонд 13, опись 3). В январе 1921 года состоялось решение Оргбюро ЦК РКП(б) об откомандировании меня на работу в ВЦСПС. В феврале того же года я приступил к работе в тарифно-экономическом отделе ВЦСПС в качестве ответственного инструктора. По правде говоря, вряд ли я был подготовлен для такой работы, но тогда мы все, “ответственные работники”, т.е. бывшие рабочие, были более или менее одинаково подготовлены. (Как не вспомнить здесь ответ В.И.Ленина на вопрос о том, чем должен заниматься комиссар.) Работая в аппарате ВЦСПС, я включился в партийную работу, и городской комитет партии даже счел нужным включить меня в свой актив (комитет этот помещался на Рождественском бульваре). Благодаря включению меня в актив я удостоился чести получить гостевой билет на 10-й съезд Партии. К моему сожалению, на второй или третий день работы съезда я заболел и многие недели пролежал в Яузской больнице.
С 1921 года до августа 1936 года мой путь проходил так же, как у многих рядовых большевиков, ставших по указанию или рекомендации партии ее функционерами. Этот пятнадцатилетний период прошел для меня в работе и учебе. Должен отметить, что при этом происходили довольно частые перемены в работе. Из моих записей видно, что и с 1917 по 1920 гг также были частые перемены в моей работе. Смею утверждать, что чаще всего это вызывалось не личными желаниями. На протяжении многих лет работники партии, в том числе и рядовые функционеры, как я, перебрасывались только по указанию вышестоящих организаций. Объяснение этим фактам я нашел в ответе В.И.Ленина на письмо А.А.Иоффе, в котором он жаловался на частые переброски (см. Ленинский сборник, ХХХYI, стр.208-209). За полтора десятка лет мне довелось быть и заведующим тарифно-экономическим от-делом в профсоюзных организациях, и председателем в таких организациях, на уровне губернских (брянских строителей) и краевых (железнодорожников Дальнего Востока), и секретарем райкома партии в Ульяновске, и начальником Политотдела 3-го отделения Уссурийской жел. дороги.
Нелегко вспомнить о всех повседневных шагах на своих путях-дорогах. Все они были направлены на пропаганду идей В.И.Ленина и его деятельности для укрепления власти Советов. Для нас, функционеров партии, действовали не карьеризм, не магнит - оклад, а убеждение в правоте ленинизма в деле переустройства страны на пути к победе социализма. Для этого требовалось (и требуется), чтобы участвовали не только мозги, но и сердце. Так, и только так, я работал на всех тех участках, на которые меня посылала партия большевиков. И теперь, ко-гда мне уже 75 лет, так выполняю любое партийное поручение моей организации ( в скобках будь сказано, что моя организация, з-д “Борец”, в последнее время мне дает мало поручений).
До сорокалетнего возраста на моих путях-дорогах были и тучи, были ненастья, была безработица (до революции 1917 года). После Октябрьской революции тоже не сплошное веселье было, но то, что наступило для меня в августе 1936 г., я называю смерчем. Он бушевал в моей жизни почти два десятка лет. Этот смерч был вызван не какими-то атмосферными или природными причинами, а политической изменой со стороны Сталина и его сподвижников. Бед от этого смерча было боль-ше, чем можно себе представить, но на этих страницах будет лишь то, о чем мне известно доподлинно.
Начну с перечисления нескольких фактов, которые опубликованы в газете “Правда” (Центральный орган ЦК КПСС). Иван Иванович Радченко погиб от сталинской репрессии (см.”Правда” от 28.10.1964). Василий Константинович Блюхер по такой же “причине” погиб (19.11.1964). Иосиф Михайлович Варейкис также погиб (19.09.1964). Амаяк Маркарович Назаретян также невинно погиб (17.11.1964). Алексей Александрович Кузнецов также оказался жертвой сталинского произвола (20.02.1965). Я не задаюсь целью перечислить всех погибших товарищей, которые мне известны. Это заняло бы очень и очень много страниц. Если борцов за дело Ленина сгноили и умертвили в тюрьмах и лагерях, то не являются ли эти факты красно-речивым доказательством того, что Сталин и его сподвижники (Берия, Каганович, Молотов и им подобные) кощунственно прикрывались знаменем Ленина и под ним творили свои грязные дела. Не всегда только теплые краски бодрят человека, бывает, что и холодные будят в человеке стремление добиться такого положения, которое исключит возможность таких фактов, для изображения которых нужны только холодные краски. Характеристика сталинских норм руководства партией и страной, как она изложена в моих записях, некоторыми, кому доведется их читать, будет оценена как субъективная. Пусть с этой субъективной окраской и примет ее читатель. Хочу здесь заметить, что такую крупную (по своим злодеяниям) фигуру как Сталин один человек не может вообще объективно охватить.Надо,чтобы о периоде сталинщины писали как можно больше людей, переживших и испытавших на своей спине этот период. Литература, как художественная, так и мемуарная, не коснулась этой темы, если не считать такую работу, как “Барельеф на скале” в журнале “Москва” №7 за 1964 г. История о заключенных и сосланных в “места не столь отдаленные” (Колыма, Тайшет, Норильск) отражает много трагических судеб этих людей. Надо, чтобы эта история была известна всему нашему народу. Пусть факты, имевшие место в жизни рядового большевика, в данном случае моей, чем-нибудь послужат этой истории.
Первое событие, положившее начало моим многочисленным мытарствам, произошло 19 августа 1936 года. Несмотря на то, что в это время я был в отпуске, ко мне на квартиру пришел секретарь партийного комитета управления Московско-Курской железной дороги и предложил мне прийти на партийное собрание, назначенное на тот же день. Меня очень удивило это приглашение и этот визит. На мой вопрос, чем вызывается это специальное приглашение, он (секретарь Сергеев) ответил, что на собрании будет зачитываться закрытое письмо ЦК ВКП(б) о происходившем тогда процессе над “заговорщиками-троцкистами”, и дополнил свой ответ словами: “Ты ведь был в 1927 г. троцкистом”. Такое дополнение не могло не взбудоражить меня, тем более, что я не был в 1927 г. троцкистом. Я сказал Сергееву, что если бы он добросовестно ознакомился с моей партийной учетной карточкой, которая имеется в парткоме с февраля 1936 г., то мог бы убедиться, что он возводит на меня напраслину.
К назначенному часу я пришел на собрание. После того, как зачитали упомянутое письмо, начались высказывания по нему. Среди выступавших был и я. Мое выступление ничем не отличалось от других. Оно отличалось лишь в одном - я громогласно опроверг измышление Сергеева, будто я в 1927 г. был троцкистом. Должен здесь подчеркнуть, что за более чем полугодовое пребывание в этой парторганизации ни разу не было случая какой-то предвзятости ко мне как к оппозиционеру к партийной политике ЦК. Мне поручали всякие задания от парткома, в том числе и руководство кружком по изучению истории партии для высшего командного состава Управления дороги. В Политотделе дороги меня также часто использовали как партийного активиста, но на этом собрании начальник этого отдела Кастанян в своем выступлении счел нужным внести предложение о принятии решения о проверке моей партийности. Это предложение обожгло меня как огнем молнии. К сожалению, в данном случае авторитет партийного руководителя был использован тов.Кастаняном не для благого дела. Я, как и многие другие, в том числе и тов.Кастанян, не видели, что выдумки о заговорщиках нужны были узурпатору Сталину для лучшей гарантии того, чтобы держать всю власть в своих руках. Где-то в сочинениях Анатоля Франса говорится, что для удержания власти узурпаторам надо иметь наготове пару хороших заговоров. Этот экскурс в литературу может быть и ни к чему, а может быть и правилен. Несмотря на проявление такой бдительности со стороны тов.Кастаняна, он все же был уничтожен в застенках узурпатора Сталина.
На следующий день начальник дороги А.М.Амосов1 застраховался и издал приказ об освобождении меня от работы начальника кадров дороги, которую я выполнял по путевке ЦК КПСС (тогда ЦК ВКП(б)), а через два дня партком исключил меня из партии. Это исключение было страшным ударом и потому ошеломило меня до умопомрачения. Врачебный диагноз гласил, что я заболел реактивной депрессией. Болезнь не прекратилась и тогда, когда Бауманский райком партии отменил решение об исключении меня из партии. Необоснованность исключения меня как по существу, так и по форме (не по уставу), все же не помешало райкому партии включить в свое постановление пункт, на основании которого мне запрещалось вести пропагандистскую работу. Фактически это означало, что мне отказано в доверии. Возможно, из-за этого реактивная депрессия меня не покидала. Не быть в угнетенном состоянии значило бы не понимать простой истины для члена большевистской партии. Она заключается в том, что каждый партиец обязан вести партийную пропаганду независимо от того, какое положение он занимает и какую работу выполняет.
Не помню, сколько времени прошло после этих решений парткома и райкома. Оно измерялось неделями, в течение которых у меня не было никакой работы. До этих событий в течение пятнадцати лет не было ни разу, чтобы партия не направила меня по своему усмотрению; теперь же мне пришлось просить райком партии рекомендовать меня куда-нибудь на работу, ведь надо было иметь средства на жизнь. В сорок лет никак нельзя быть на чьем-либо иждивении,да и не было у меня никого, на чьем иждивении я мог бы быть. Это заставило меня просить райком разрешить мне самому подыскать работу. Такое разрешение я получил и нанялся по своей юношеской специальности, токарем по металлу.
До середины февраля 1937 года я проработал токарем на заводе, изготовлявшем рентгеновские машины. За это время я несколько успокоился. Хотя партком мне не давал никаких поручений (памятуя решение Бауманского РК партии), я, находясь в рабочем коллективе, все же в частых разговорах с рабочими выполнял то, что полагается большевику. Я подчеркиваю, что обрел лишь некоторое успокоение, ибо полное не наступило, хотя и существует мнение, что время является лучшим лекарством от всех невзгод. Когда применяется политическая репрессия, отказ в партийном доверии, в таких случаях время не властно. Такое понимание было у меня тогда, такое же осталось и теперь, когда пишу эти строки. Не помню, состоялось ли решение Бауманского райкома партии или ограничились лишь словесным указанием мне, но в феврале 1937 г. я был назначен начальником паяльного цеха завода “Металлоштамп”, входившего в артельное объединение. Я уже забыл, как называлось это московское объединение. В переводе меня на работу в негосударственное предприятие я не усмотрел ничего плохого и никак не полагал, что этот перевод является дополнительным ударом, нанесенным мне как члену партии, которому не оказывают полного политического доверия.
Глава 14
Более года спустя, т.е. в апреле 1938 г., когда меня арестовали, следователь, который вел “дело” обо мне, прямо заявил на одном из допросов, что перевод меня в артельное предприятие объясняется тем, что не считали возможным разрешить мне работать на государственном предприятии. Что теперь можно сказать по поводу таких методов и способов репрессирования людей, в том числе членов правящей партии? На такой вопрос можно ответить правильно лишь в том случае, если учесть, что такие методы поощрялись иезуитской школой, созданной и насажденной Сталиным и его подручными во всех звеньях партии и государства. Дальнейший ход событий это подтверждает.
Многие, многие большевики, оказавшиеся в тюрьмах при Советской власти, предварительно были исключены из партии. Арестовывали и таких,у которых не успели забрать партийные билеты. У меня партбилет забрали в райкоме партии за полтора месяца до ареста. Я пишу так потому, что исключение меня из партии, как рабочего, могло бы считаться по уставу действительным лишь после того, как оно было бы подтверждено решением городского комитета партии, но такового до моего ареста не состоялось. Мне было известно, что 3 мая 1938 г. МГК (Московский городской комитет) должен был разобрать мой протест против решения бюро Бау-манского районного комитета от 17 марта 1938 г., но 30 апреля я уже сидел во внутренней тюрьме на Лубянке.
Не знаю, сумею ли вспомнить и описать те минуты, в течение которых происходил обыск в моей квартире, закончившийся моим арестом. Явственно помню, что пришедшие двое молодых людей в форме работников органов МГБ, застали меня читающим работу К.Маркса “Гражданская война во Франции”. Предъявив ордер на обыск и арест, прежде всего спросили, где мой револьвер “маузер” за таким-то номером. Я не удивился,что они назвали номер, так как в свое время зарегистрировал этот револьвер, хранившийся у меня со времен пребывания на польском фронте, т.е. с 1920 года. В 1936 году,когда по партийной линии меня репрессировали, я счел нужным сдать этот револьвер (хотя он был мне дорог, как военный трофей). Увидев квитанцию о сдаче этого оружия, они спросили, нет ли у меня другого. Другого у меня не было, но они искали очень тщательно по всей квартире. Разбудили спящего сынишку и не разрешили моей жене находиться на кухне, где она готовила к первомайскому празднику. Ведь такие “визиты” сталинские опричники делали обыкновенно накануне революционных праздников. Этот визит был нанесен 30 апреля.
Как только непрошеные “гости” кончили свою “операцию”, они предложили мне следовать за ними. Сборы были недолги. Попрощался с сыном и женой и отправился в неизвестность. На улице (в 5-м проезде Марьиной Рощи) ожидала легковая машина, в которую меня усадили, и она помчалась в нужное им место. В час ночи меня впустили в погреб дома, где помещался Бауманский районный совет рабочих депутатов и райком партии (на Ново-Басманной улице). Заспанный дежурный в форме работника МГБ, увидев меня с чистым мешочком, в котором было все, что вложила жена, обратился ко мне с вопросом: “Что там в сидере, никак праздничные пирожки?” Я передал ему весь “сидер” (мешок по-блатному) с содержимым. Дежурный с теми двумя, которые меня привезли, закончили какие-то формальности и уже глубокой ночью доставили меня на Лубянку (во внутреннюю тюрьму). Как и многие другие, плененные в своей же стране Сталиным, я тогда считал, что происходит что-то ошибочное и что скоро эта ошибка обнаружится, но... это “скоро” длилось для меня до августа 1955 года.
Этой тюрьмой начались мои пути-дороги по тюрьмам и лагерям, созданным Сталиным и его приспешниками для большевиков. Об этой тюрьме в моей памяти остались три факта, о которых мне хочется упомянуть.
Первый. Утром 1 мая узники прильнули к решетке небольшого окошка, так как услышали песни первомайской демонстрации.Этот пролетарский праздник многое напомнил сидевшим тогда под замком. Советские люди за два десятилетия привыкли этот праздник отмечать радостно, среди своих друзей и родных, а в данном случае могли улавливать праздничные звуки лишь через толстые стены тюрьмы. Все или почти все были арестованы и водворены в эту камеру накануне праздника, а следовательно, подружиться еще не успели, но безусловно оказались друзьями по несчастью.
Второй. Как я раньше уже писал, мне было известно, что 3 мая в Московском комитете ВКП(б) должно было быть рассмотрено решение Бауманского райкома партии. Во время утренней поверки арестантов я сказал корпусному, что мое партийное “дело” сегодня разбирается в МГК и поэтому мне надлежит там быть. Корпусной был настолько изумлен моей наивностью, что не нашелся, что ответить, и никак не реагировал на это мое сообщение. Уходя из камеры, запер ее, как всегда. Должно быть, сознание мое было действительно затуманено, ибо часа через два я опять постучался в тюремную дверь и на вопрос караульного, почему я стучу, ответил, что мне нужно быть сегодня в МК партии. После двух-трех попыток убедить караульного в основательности моего желания быть в этот день в МК, караульный, выругавшись, сказал мне через открытый “волчек”: “Если нужно будет, то МГК тебя вызовет”. Все это происходило в присутствии полутора десятков совершенно нормальных людей, и никто меня не остановил. Надо полагать, что и мои соседи по камере были столь же наивны, сколь был наивен я. Среди моих сокамерников был тов.Рудаш. Этого человека я знал как марксистского философа. Он в 1932 году руководил семинаром по философии в Институте Красной профессуры, в котором я тогда учился. Коммунист Рудаш был арестован на сутки раньше меня. Несмотря на это, у него еще были в запасе папиросы, которыми он без сожаления угощал курящих, не имевших папирос. Осталось в моей памяти и то, что в этой внутренней тюрьме я узнал. что тов.Бела-Кун, известный как один из руководителей Коммунистического Интернационала, арестован. Тов. Рудаш рассказал мне подробности этого ареста. Ему, как венгерскому коммунисту, тов.Бела-Кун был известен еще со времени Венгерской Советской республики, т.е. с 1919 года. Мне вспомнилось высказывание В.И.Ленина об этом замечательном венгерском революционере-коммунисте. В 1920 году Бела-Кун написал брошюру “От революции к революции”. Ленин прочел ее и вот как он охарактеризовал автора: “В брошюре хороша твердость автора, его непреклонная вера в революцию. Хороши замечания о партии, какой она должна быть. Хороша критика социал-демократов” (Соч.В.И.Ленина, том 52, стр.41. Курсив мой). Столь положительно охарактеризованный Лениным, тов.Бела-Кун оказался в тюрьме, а затем убит Сталиным.
Из внутренней тюрьмы, в которой находился недели две, я был переведен (в “черном вороне”) в Бутырскую цитадель времен царского режима. Наступила пора допросов, учиненных в этой тюрьме. Первый допрос вызвал у меня улыбку, несмотря на всю трагичность моего положения. Следователь не нашел ничего более подходящего, как потребовать, чтобы я ему рассказал о своей контрреволюционной деятельности. В самом деле, как можно без улыбки реагировать на такого рода требование к человеку, т.е. ко мне, который с юношеских лет занимался революционной деятельностью. Ведь и на баррикадах, и в гражданской войне я сражался и выступал против контрреволюционеров всех мастей. Все это должно было быть известно следователю, и все же он задал мне такой нелепый вопрос. Моя улыбка в ответ на этот вопрос мне дорого обошлась, точнее - моим зубам...
Допросы, которые происходили главным образом ночью, не приводили ни к каким признаниям с моей стороны, хотя следователь, а иногда и два следователя, всячески уговаривали меня признаться в том, что я вел контрреволюционную работу: такое признание облегчит мою участь. Не подействовали на меня и такие уговоры... Не считаю нужным описывать сцены каждого допроса. Думается, будет достаточно, если отмечу, что тюремная камера после допроса казалась раем... Я мог сделать несколько шагов по камере и лечь на свое место среди спящих арестантов, густо лежавших на нарах. Такие нары укладывались каждый вечер, после того как кончалась вторая поверка (первая проводилась по утрам).
Хочу здесь отметить, что поверка арестованных в Бутырской тюрьме проводилась тогда не так, как в других тюрьмах,где мне пришлось сидеть позднее. О том, что она начинается, давал знать стоявший конвоир через “волчек”. В этом случае староста камеры выставлял на длинный стол жестяные кружки. Такие кружки выдавались администрацией тюрьмы каждому арестанту. Корпусной (так назывался человек, ведавший всеми стражами данного корпуса) в сопровождении коридорного, войдя в камеру, начинал считать не арестованных, а тщательно считал выставленные кружки. Что никто из арестованных не убежал, в этом начальство не сомневалось, но оно не было уверено в том, все ли кружки есть в наличии. Как это ни удивительно, но стража допускала, что жестяные кружки или даже одну из них коварные “враги народа” превратят в оружие против порядков, установленных Сталиным и его приспешниками. Это кажется смешным, но это было именно так. Хочу изобразить в нескольких строках еще одну “мудрость” сталинского режима в тюрьме, переполненной большевиками в описываемый период. Чтобы никто из заключенных не вздумал писать (факты, мемуары или, сохрани Боже, письмо кому-нибудь) на выдаваемой бумаге для туалета, каждый заключенный был обязан возвратить конвоиру полученную бумагу, независимо от того, в каком виде она оказывалась после использования по назначению... Конвоир тщательно подсчитывал такие бумажки и, подсчитав в коридоре всех арестантов, вышедших их уборной, лишь тогда впускал в камеру.Ни до заключения в Бутырскую тюрьму, ни после освобождения из всех тюрем (их было пять, помимо арестантских жел.дор.вагонов и лагерей, в которых мне пришлось сидеть) я ни разу не натолкнулся на какой-либо печатный источник, в котором бы прочитал о таких “оригинальных” порядках, охранявших тюремные режимы. Должно быть, именно в этом и проявилась мудрость будущего генералиссимуса Сталина.
Считаю нелишним привести запомнившиеся мне факты из жизни в камере Бутырской тюрьмы. В один очень жаркий день мы, арестанты, разделись почти догола. Хотя от этого жара не уменьшилась, но каждому в переполненной камере все же стало легче. В этот день заместитель начальника тюрьмы производил обход. Зайдя к нам и увидя нас раздетыми, заставил тут же одеться. Никакие наши просьбы не помогли. Наша просьба убрать вторые рамы зарешеченных окон тоже была отклонена. Он обосновал это свое решение следующим образом: “Все имущество тюрьмы, в том числе и вторые рамы, является инвентарем, принадлежащим стране, а вы ведь считаете себя хозяевами страны, поэтому и эти рамы должны быть на своем месте, т.е. в переплете тюремных окон”. Циничность этого “обоснования” не нуждается в комментариях. Непреклонность тюремного начальства привела к тому, что один из арестованных задохся в камере. Этому “преступнику” было уже 80 лет. Ничего не скажешь, возраст солидный. Что же касается солидности обвинения, то об этом пусть скажет тот, кому когда-нибудь представится возможность читать эти строки. Однажды я спросил этого 80-летнего арестанта, в чем его обвиняют. Он обвел меня своими слезящимися глазами, в которых было больше заметно удивление, чем скорбь, и, немного подумав, показал на написанный им листок, сказав при этом: “Вот именно об этом я и спрашиваю в моем заявлении. Не могу же я принять всерьез, что следователь на единственном допросе на протяжении шести месяцев всячески допытывался узнать причину моего участия в студенческой демонстрации в... 1875 году”. Читатель скажет, что это невероятно, но теперь (после ХХII съезда) доподлинно известно, что во время сталинского произвола имели место многие факты, которые кажутся невероятными.
Хочется мне упомянуть здесь еще один “невероятный” факт, от прочтения которого на лице у читателя появится не только горечь, но и улыбка. Во всяком случае, мы, арестанты, тогда имели случай улыбнуться или даже посмеяться. Это произошло вот по какому поводу. Как всегда, когда в коридоре тюрьмы возились у дверей камеры, запертые в ней настораживались. На этот раз случай был из ряда вон выходящий. Конвоир открыл камеру и прямо-таки втолкнул молодого человека довольно крупной комплекции. От толчка, полученного в спину, наш новый сосед упал. Тюремная дверь захлопнулась и заперлась. Новый арестант, поднявшись с пола, тут же обернулся к двери и начал стучать. Когда конвоир в открытом “волчке” спросил, что случилось, то этот арестант потребовал, чтобы ему дали... “жалобную книгу”. Вот это-то требование жалобной книги вызвало у всех нас улыбку и даже смех. Даже у самого старого человека (который в следующую ночь задохся от жары), даже у него морщины, в складках которых задерживался пот, явно выражали рвущуюся изнутри улыбку. Не забуду фамилию этого наивного молодого арестанта. Может быть, потому что уж очень необычная фамилия - Сержант. Мы в камере узнали, что он незадолго до своего ареста бежал из буржуазной Латвии и был уверен, что на советской земле обретет свободу. Ему было известно, что латвийские революционеры немало сражались за власть Советов в России, и он не мог понять, как это в нашей стране держат людей в тюрьме в такой тесноте, даже если кто-нибудь из них действительно был преступником. Себя он никак (как абсолютное большинство ставших его сокамерниками) не считал преступником. В самом деле, какой преступник будет требовать жалобную книгу!
Об иезуитстве, насажденном Сталиным в тот период беспрецедентных репрессий против невиновных людей расскажет история. Кажется,в августе 1938 года камера № 63 Бутырской тюрьмы пополнилась (хотя уже была переполнена) человеком в хорошем и новом костюме. Видно было, что на пиджаке отсутствуют пуговицы, а брюки этот человек поддерживал рукой. Это свидетельствовало о том, что он только что арестован и не нашел еще иного способа, чтобы брюки держались на нужном “уровне” (пояс или подтяжки сразу забирались у арестованного). Этот новый арестант не требовал жалобной книги. Он иначе выразил свое возмущение и недовольство по поводу случившегося с ним - то и дело плевался, конечно, в парашу, и угрюмо шагал по камере, не произнося ни слова. Прошли какие-нибудь 10-20 минут, и он заговорил со своим соседом по нарам. Начал с того, что назвал свою фамилию, а затем рассказал, как его арестовали. Я был среди тех, которые пожелали слушать пришельца с “воли”. Он назвал себя Тумановым. По его рассказу, еще часов за пять до того, как очутился в тюремной камере, он шел с вокзала к себе на квартиру. Он в тот же день приехал из Испании, откуда был вызван для доклада в соответствующем органе Советского правительства, коим был послан в Испанию. В Мадриде он часто встречался с Михаилом Кольцовым. Туманову, как и нам тогда, не было известно, что Михаил Кольцов, наш талантливый журналист, стал жертвой сталинского произвола. Тов.Туманов рассказывал, каким большим авторитетом пользовались представители-посланцы Советской страны среди революционных деятелей Испании, в том числе и тов.Кольцов. С заметной грустью тов.Туманов посматривал на свой новый костюм (теперь с оторванными пуговицами) и показал нам фирменную марку национализированной швейной фабрики Мадрида, рабочие которой сшили ему этот костюм в знак уважения и признательности, как представителю революционной России, а затем добавил: “Вряд ли мадридские рабочие поверят в то, что сейчас я нахожусь в советской тюрьме”.
Книгу Ф.М.Достоевского “Мертвый дом” А.И.Герцен охарактеризовал как наводящую “ужас”. Много ужасов описано Федором Михайловичем, но среди них не найти и подобия тому, что было тогда, в 1938 году, в Бутырской тюрьме. Не думаю. чтобы камера, в которой я сидел, была исключением. В этой камере существовал “комбед”. Когда это стало известно тюремному начальству,то оно пригрозило карцером старосте камеры,если не будет уничтожен этот “комбед”. Эта “организация” проявляла благотворительную заботу об арестантах камеры, не имевших передач с “воли”. Передачи могли быть только денежные через контору тюрьмы (50 руб. в месяц). Часть этих денег можно было использовать на покупку продуктов питания, продававшихся в тюремной лавке. Когда закупленные продукты притаскивались в камеру (что бывало не чаще двух раз в месяц), все “имущие” выделяли из своей закупки какую-то толику для “неимущих”. Это было своего рода подаяние, товарищеское, но все же подаяние. Из истории тюремной России известны многие факты получения арестантами подаяний, и тогда, когда они сидели взаперти, и в особенности, когда они следовали этапами в Сибирь (тогда еще не на Колыму, как при Сталине). О таких подаяниях Ф.М.Достоевский много пишет и ни разу не упоминает, чтобы они запрещались начальством “острога”, а в описываемое мною время держиморды - сталинские опричники - запретили эти элементарные проявления товарищества даже в запертой тюремной камере. Как поступали после этого запрета все “имущие”, не знаю или не помню, но я, как “неимущий”, продолжал получать от тов.Мазеля (он работал до ареста на заводе ”Каучук” в Москве каким-то руководящим работником) несколько сушек и папирос (махорку запрещали покупать в тюремной лавке). Этот мой “благодетель” тов.Мазель со своим латышским акцентом спросил меня как-то, знаю ли я, как по-еврейски русское слово “счастье”. Когда я ему ответил на его вопрос, он сказал: “Вот тебя и постигло “мазл” (т.е. счастье) от человека, фамилия которого Мазель”. Я был очень и очень рад, что этот мой товарищ по несчастью оказывал мне такое дружеское внимание в тех ужасных условиях.
Не смогу привести здесь всю “песнь, наводящую ужас” (А.И.Герцен) из жизни в камере. Перейду к изображению того, как она, эта песнь, звучала в кабинетах той же тюрьмы, в которых следователи допрашивали арестантов. Нет надобности при этом указывать, что сумею рассказать только о тех допросах, которым подвергался я сам. Вот одна из “песен”, прозвучавшая на одном из допросов. После того. как мой мучитель-следователь не смог добиться от меня каких-либо нужных признаний в порочащих меня поступках против Советской власти (их и не было никогда), он решил спровоцировать меня, “запев песню” про то, что моя жена во всем призналась, в том числе признала, что я контрреволюционер. Для меня такая песня прозвучала убийственно:во-первых, я не исключал того, что жена арестована (ведь арестовывали людей ни за что и ни про что), во-вторых, я мог предположить, что находясь под арестом и не выдержав пыток она вынуждена была к такому признанию, которое хотя и не соответствовало действительности, но избавило ее от пыток. Много лет спустя мне стало доподлинно известно, что никаким допросам моя жена не подвергалась. Что можно сказать по поводу тех методов, которые применялись на допросах? Мне думается, что ответ на этот вопрос может быть очень кратко сформулирован: методы эти были провокационными и основывались на шантаже. Ведь неблаговидные цели порождают непристойные методы их достижения. Предательские цели Сталина и его банды соответ-ствовали тем примененным ими методам, которые уготовили большевикам, в том числе и рядовым, пути-дороги на тот свет, в тюрьмы, лагеря и ссылки. Не добившись для себя никаких результатов, следователь громко изрек какое-то ругательство, литературно украсив оное словами: “Были у меня на допросе всякие “птички”, но такого Величко еще не было”. Не знаю, чего он добивался от меня этим каламбуром, но, помучив меня в течение 5-6 ночных часов, отправил обратно в камеру.
Следующий допрос происходил, вероятно, через какие-нибудь 5-6 суток. На этот раз почему-то мой следователь был не один. Допрос со стороны двух следователей длился не столь долго, возможно, потому, что это был перекрестный допрос. На этом “сеансе” (тоже ночном) от меня требовали, чтобы я рассказал ни много и ни мало о своей шпионской деятельности в пользу Польского государства. Это ошеломило меня не меньше, чем предыдущие нелепые и провокационные требования. Особенно усердствовал второй (для меня новый) следователь. Если к повадкам “моего” первого я как-то приноровился, то к его коллеге, долговязому, молодому (по сравнению с первым) тирану, у меня не было этой приноровленности. Я ему ответил, что от меня, большевика, воспитанника партии Ленина, никак не возможно ждать шпионской деятельности в пользу какого-либо иностранного государства. Он не дал мне кончить этот ответ и начал кричать, что “воспитывала тебя фашистская партия”. Так этот молокосос обратился ко мне. Такого обращения на “ты” не позволял себе “мой”, старый следователь. Он хотел “обосновать” обвинение меня в шпионаже тем, что по данным анкеты я уроженец города Пинска. Действительно, в этом городе я родился, но, во-первых, это было в 1896 году, когда не было польского государства. Такого государства не было и в 1909 году, когда 13-летним мальчиком я переехал в Одессу, - это во-вторых. Мое участие в рядах одесских красногвардейцев в борьбе за власть Советов, в войне против белополяков в 1920 г. было известно моим истязателям, но они расценили это по-сво-ему, т.е. по-иезуитски. Может быть, надо применить какое-то другое слово, вместо слова “иезуитски”, но я этого слова не нахожу в моем словесном арсенале. Рассказать обо всем том, свидетелем чего я был в течение многих лет моих мытарств, я не сумею, на скольких бы страницах ни поместил свои воспоминания. Мои нервы не выдержали, и я начал громко возмущаться по поводу того, что мое участие в Красной Гвардии, всю мою большевистскую работу в тылу белогвардейцев, участие на войне с белополяками эти следователи назвали маскировкой, посредством которой я скрывал выдуманное ими шпионство. За свое возмущение, после этого допроса, в камере, я оказался в таком состоянии, что два дня не мог подняться на ноги.
Вспоминая эти позорные, грустные и тяжелые для всего советского народа времена, должен заметить, что есть еще такие люди (я бы их назвал - “людишки”), которые непрочь забыть о том времени. С допросами мне в какой-то мере посчастливилось. Это звучит странно, но это так, если говорить о количестве допросов. Я подвергся тогда, в Бутырской тюрьме, всего шести допросам, во время которых меня мучили и истязали. Сокамерники и многие из тех, с которыми мне довелось беседовать в этапах и лагерях, рассказывали, что они перенесли такие допросы в большем количестве. Прямо скажу - “утешение слабое”... На последнем допросе, который состоялся в начале сентября, “мой” старый следователь начал с того, что упрекнул меня в том, что я ни в чем не признаю себя как преступник. На этот раз я спокойно ответил, что не могу признать того, чего в действительности нет и в помине. Следователь тоже спокойно среагировал на мой ответ, но добавил, что обеспечит организацию суда надо мной. Эта угроза меня совершенно не испугала, несмотря на то, что на этом допросе я утвердительно ответил, что знал по совместной работе людей, которых он перечислил. Первым значился Гамарник Я.Б., вторым назвал Блюхера В.К., затем назвал Карталашвили (Лаврентьев) О.И. и завершил Амосовым А.М. Я не мог ответить, что не знал этих товарищей, с которыми работал вместе в разные времена. Тот факт,что этих людей знал, я не рассматривал как преступление, даже если они уже были репрессированы.
Угроза следователя не осуществилась - суда надо мной никакого он не мог организовать. Но по надуманному мотиву Особым Совещанием СССР было вынесено решение: “За контрреволюционную и троцкистскую деятельность Величко-Оксмана С.А. заключить в концлагерь на 5 лет”. Это решение состоялось 19 сентября 1938 г., как будто специально в качестве “подарка” ко дню моего рождения (мне минуло тогда 42 года). В чем выражалась эта “деятельность”, нигде и никак не было показано, ибо в действительности она не существовала. Этот факт не интересовал господ сталинских опричников. Для них было достаточно приклеить своим жертвам грозный ярлык. Глава 15
Итак, “приговор” вынесен, и больше допросами меня не терзают. В таких случаях арестованных переселяют в этапную камеру. Хотя известно, что хрен редьки не слаще, но все же различие между ними есть. Между этими тюремными камерами тоже есть разичие. Первое - это то, что арестанту уже известно наказание, хотя для многих арестантов эта известность оказалась ложной, в том числе и для меня: вместо 5 лет, я оставался заключенным в лагере более восьми лет, без какого-либо дополнительного “приговора”. В этапной камере я содержался ровно два месяца. За это время в моей памяти закрепились некоторые факты, из которых так и льются горькие слезы. Вот один из таких фактов.
Рядом со мной помещался арестант по фамилии Барабанщиков. Его возраст был не более 30-35 лет. Этот тов.Барабанщиков успел стать военным атташе. В такой должности он служил в советском посольстве в Варшаве. Летом 1938 года он получил предписание прибыть в Москву для доклада о своей работе. Ничего не подозревая. подготовил доклад, собрался в поездку. По его рассказу, перед отъездом он устроил ужин или чаепитие для своих сослужив-цев и коллег. Во время ужина кое-кто из них уговаривал его не ехать, ибо в польской печати сообщалось, что многие советские дипломаты, работавшие за границей, вернувшись по таким же вызовам в Москву, арестовывались. Мой сосед по нарам тов.Барабанщиков не придал никакого значения этим советам и в назначенный день приехал в Москву. Такая дисциплинирован-ность вполне нормальное явление для советского человека, а он кроме того был еще и членом коммунистической партии. С вокзала он направился домой к своим родителям, которые жили на Красной Пресне (его родители были текстильщики, участники боев 1905 года в Москве), но не успел повидать своих стариков, ибо по дороге его арестовали и отправили в тюрьму. В следственной камере, по его словам, он просидел всего три месяца, после чего зачитали ему приговор: “заключить в ИТЛ (исправительно-трудовые лагеря) на 10 лет”. Закончил он свой рассказ с улыбкой, хотя в глазах появились слезы. Как назвать виновников этих фактов? Мне думается, что любой непредубежденный человек ответит на этот вопрос следующим образом: виновники возникновения подобных фактов - подлые иезуиты.
В этой тюремной камере у меня лично были такие встречи, о которых хочу немного рассказать. В начале моих записок я упомянул, что первым моим воспитателем и наставником на революционном пути был Федоров, с которым я работал на заводе в Херсоне в 1913 году. По воле случая я встретился с этим человеком в этапной камере московской Бутырской тюрьмы. Несмотря на то, что прошло четверть века, мы узнали друг друга. Мой наставник М.Федоров порядком постарел (ему было за 50 лет),я был уже не семнадцатилетним юношей,а человеком, вступившим в пятый десяток (42 года). Наши воспоминания о проведенных когда-то вместе не-скольких месяцах были не очень содержательны,но рассказы друг другу о последующих многих годах, вероятно, были интересны и для меня, и для него. Тов.М.Федоров сказал мне, что в 1915 году он уже оформился как член РСДРП(б). За борьбу против участия представителей рабочих в военно-промышленных комитетах, организовывавшихся тогда, а также за то, что был активным пораженцем (т.е.ленинцем), во время войны попал в Луганскую тюрьму, а оттуда в ссылку в Вологодскую губернию. Февральская революция 1917 года освободила его из ссылки. После революции он обосновался в Ростове-на-Дону, где его застала Октябрьская революция. Как и многие другие пролетарские революционеры, он выполнял работы, на которые его ставила наша большевистская партия. В Бутырской тюрьме он оказался из-за того, что приехал в Москву, конечно, не для того, чтобы стать арестантом. Он приехал в столицу,чтобы утвердить производственный план завода, директором которого был. Вместо утвержденного производственного плана, теперь уже не директор, он получил решение Особого Совещания, по которому его отправляли в лагерь на восьмилетнее заключение. У тов.Федорова было что рассказать мне, ведь он располагал огромным опытом пролетарского революционера. Со своей стороны, я не многим мог с ним поделиться о 25 годах, прошедших с тех пор, как я с ним познакомился, но не мог не сказать ему, что мое, по существу случайное, знакомство с ним в городе Херсоне в 1913 году послужило причиной того, что я заинтересовался политикой и стал большевиком. Проведенное в этой камере вместе время (должно быть, пару недель) мы только ахали и охали по поводу нашей встречи и были даже довольны, но, разумеется, не тем, что эта встреча произошла в тюрьме. Очень хорошо помню, как, бывало, тов.Федоров восклицал: “Как это Сталин допускает такое безобразие - держать большевиков в тюрьме в советское время!” Ему, как и мне, да и многим другим большевикам, было тогда невдомек, что именно Сталин поставил перед собой задачу уничтожить большевиков. Мой дорогой и действительный наставник на сознательный путь пролетария, тов.Федоров ушел в этап раньше меня, но память о нем у меня останется до конца моих дней.
В этой этапной камере, и, следовательно, также случайно, я встретил еще одного знакомого мне человека - Натана Либермана. С ним я был в одном красногвардейском отряде им. С.Рошаля на румынском фронте в 1918 году (январь-март). Этот человек был не большевиком, а анархистом. Он в 1917 году из Америки эмигрировал в Одессу. Либерман стоял горой против своих бывших единомышленников-анархистов, которые не включились в борьбу за Советскую власть. Под его активным воздействием в наш отряд имени Рошаля вступили еще несколько анархистов, которые показали активность в борьбе с белорумынами. Один из этих анархистов геройски погиб в этой борьбе - Виктор Беркович. Натан Либерман в “нашей” камере был “окрещен” другим именем и даже фамилией, а именно Карл Маркс. Такое имя наши сокамерники дали ему из-за его густой бороды, которая обрамляла его лицо, испещренное крупными морщинами, но не унывающее. В наших беседах с ним он часто спрашивал своим характерным говором:“Вот ты, Семен, с юношества большевик, а я, как тебе известно, бывший анархист, но никак не могу понять, как это при большевистской власти и большевики оказались в тюрьме?” На этот законный вопрос, признаюсь, я не знал как ответить, и ему, и себе. В связи с этим Н.Либерманом не могу не вспомнить один факт, происшедший в 1921 г. в Москве. Однажды в какой-то летний месяц мне позвонили по телефону на квартиру (я жил тогда в “Деловом дворе” на площади Ногина, не помню, как тогда называлась эта площадь, - кажется, Варварская) и спросили, знаю ли я бывшего анархиста Либермана. Прежде чем ответить на этот вопрос я попросил сказать, откуда звонят. Мне ответили, что звонят из НКВД. Я сказал, что знал этого человека как честного гражданина Советской РоссииРРоссии, и добавил, что был с ним в одном красноармейском отряде. Этот мой ответ по телефону был достаточен для того, чтобы неправильно арестованного человека выпустили на свободу. Этот факт я привел для того, чтобы показать, какие нормы правления в нашей стране были при Ленине и что от них осталось при узурпаторе Сталине.
В камере, где у меня были такие встречи, о которых и думать не мог (с т.т.Федоровым, Либерманом), я просидел ровно два месяца после решения Особого Совещания о заключении меня в концентрационный лагерь и двадцать семь месяцев с 19 августа 1936 г. - со времени, когда мои дни с утра начинали вечереть. 19 ноября 1938 г. арестанты камеры ожидали очередную прогулку по тюремному дворику. Она бывала, как правило, в первую половину дня. На этот раз надзиратель почему-то не отмыкал камеру. На наши стуки в дверь он не отозвался и даже не заглянул в “волчек”. Все мы в камере решили, что нас по неизвестным причинам лишают прогулки, как это нередко бывало. Но вот в двери загремел замок, камера открылась, на пороге появился корпусной, т.е. надзиратель данного тюремного корпуса, со списком арестантов на руках. Он перечислил человек три-дцать и приказал им взять свои вещи (теперь мы убедились, что предстоит не прогулка). В числе перечисленных был и я. Нас построили по три арестанта в ряд и под конвоем повели по коридорам тюрьмы. Такое шествие длилось минут 10-15, и мы оказались в тюремном дворе.
Мы едва успели вдохнуть свежий воздух, пусть в ноябрьский ненастный московский день, как непосредственно из двора тюрьмы перешагнули в пульмановский вагон. Правда, воздух в вагоне был свежее, чем в камере, но окошки были тоже зарешеченные и не могли открываться, как в обыкновнных товарных вагонах. Как только мы переступили порог этой тюрьмы на рельсах, сразу оказались под замком. В вагоне, помимо нас, тридцати арестантов, еще никого не было. Это дало нам возможность занять места, какие нам нравились. Естественно, что мы расположились по одной стороне, друг возле друга. Я и мой друг по камере тов.Чугунов Петр Петрович заняли места рядом на нарах 2-го яруса. Не думал я, да и товарищ Чугунов, что это место будет последним на земле в его еще совсем не старой жизни (он был моложе меня на 3-4 года). В этом вагоне-камере наше “приволье”, т.е. пребывание в составе 30 человек, длилось часа три, покуда нас доставили на станцию Краснопресненская Московско-Окружной железной дороги.На остановке двери вагона раздвинулись, и перед нами предстала картина из множества живых людей - одни с винтовками наперевес, другие с такими же котомками, как и мы, окруженные вооруженными людьми с собаками. Мы имели возможность наблюдать, как люди с котомками взбирались в такие же вагоны. “Наш” вагон сразу наполнился доотказа. На всех трех ярусах расположились люди, которые отныне получили название “з/к, з/к”. Нам, тридцати “з/к”, первыми попавшими в этот вагон еще на территории Бутырской тюрьмы, пришлось уплотниться, но мы остались все же друг возле друга.
Пока втаскивали в вагон бочку с водой и обязательную парашу, которую установили у второй, закрытой двери, первая была открыта. В это время я и многие другие из вагона увидели, как вооруженные конвоиры подхватили какую-то женщину, одетую в форму железнодорожника, и увели, точнее - унесли ее куда-то. Нечего говорить,что мы ничего не могли предпринять, чтобы узнать о том, что произошло. Вскоре весь вагон услышал историю этого зрелища от одного из новых соседей по вагону-камере. Он поведал нам о том, что женщина, которую унесли конвоиры, его жена. Она служила (или работала) на железной дороге.Это дало ей возможность узнать, когда и с какого места уходит эшелон с заключенными. Она также знала, что и ее мужа отправляют с этим эшелоном в этап. Чтобы повидать мужа, она и пришла на эту станцию. Повидать-то повидала, но когда попыталась подойти непосредственно к мужу, то у вагона была схвачена конвоиром и уведена. Рассказчик, т.е. муж несчастной женщины, тов.Нехорошев успел пожелать ей всего хорошего, крикнув это из вагона-камеры. Описать этот факт я посчитал нелишним для того, чтобы и такой характеризовал бы фон, типичный для времени беззакония и произвола. Как ни жутко вспоминать то время, но забывать его нельзя. Когда-то я читал, что к закованному Петрашевскому на Семеновском плацу, смог подойти кто-то из его поклонников и успел даже рукопожатием попрощаться со своим кумиром, а при попытке попрощаться супруги со своим супругом учинили такую мерзость. Я наблюдал за тов.Нехорошевым суток двое, пока он был моим соседом. Как железнодорожники, мы говорили о том, что представляло для нас общий интерес. От него я узнал, что мои бывшие начальники по Курской жел.дороге т.т.Амосов и Кастаньян тоже арестованы Через пару дней, на какой-то остановке моего нового соседа т.Нехорошева вызвали “с вещами”, и на прощание он мне сказал: “Знай, друг Семен, большевистская правда восторжествует”. Я пожал ему руку, а сам про себя подумал, что уж очень оптимистично такое заявление в самом начале тяжелого этапа. Как оказалось, лишь после смерти основного виновника всех наших бед - Сталина - большевистская правда восторжествовала. Пусть те, которым доведется читать эти строки, не подумают, что автор их приписывает одной личности доминирующую роль в развитии общественных событий. Это точка зрения, не свойственная большевику, но большевик отнюдь не отрицает и роль личности. Этому учит марксизм-ленинизм. Можно убедиться в этом, ознакомившись с работами В.И.Ленина, направленными против Михайловского в 90-е годы прошлого века, да и со многими работами более близкого нам периода. Для иллюстрации того, что получается, когда власть сосредоточена в руках человека, который считает, что “всякая власть сильнее всякого закона”, хорошо ознакомиться с рассказом “Ат-Даван” Владимира Галактионовича Короленко (из сибирской жизни). О сосредоточении власти в руках “генсека” Сталина и о том, чего можно в связи с этим ожидать, было сказано в знаменитом труде В.И.Ленина, получившем название “политического завещания”. После сделанного отступления от изложения фактов, имевших место на моих путях-дорогах, я к ним возвращаюсь.
Мой сосед по нарам, о котором упоминалось на предыдущей странице, оказался первой жертвой произвола в этом первом для меня этапе в неизвестность. Как только “устроились” и суматоха с заполнением вагона кончилась, возникли новые беды вокруг нас, а непосредственно возле меня заболел мой тов.Петр Петрович Чугунов. Режим в товарном вагоне оказался еще более жестким, чем в тюрьме, а санитарный и медицинский уход отсутствовал. Мне,лежавшему рядом с ним на нарах, было ясно, что без медицинской помощи не обойтись, но ее не было. Все мои просьбы и просьбы старосты вагона Н.П.Попова ни к чему не привели. Конвой не удосужился призвать лекаря, и на пятые сутки заболевший дизентерией тов.Чугунов скончался. Труп командира Красной Армии, воевавшего за власть Советов с первых дней Гражданской войны, сгрузили на ст.Пермь. Помню, как при нашем знакомстве тов.Чугунов рассказывал о своем участии в борьбе против Колчака на Урале, и вот спустя несколько лет, в мирное время, труп его был сгружен на одной из приуральских станций.
Отдельные люди желали усмотреть во всем этом произволе результат деятельности органов, которыми ведал Ежов и мерзкий Берия, и не допускали, что об этом знает Сталин. Такие люди уподоблялись тем краснобаям, которые считали, что “все реформы царь выдумал, а все репрессии - дело рук его министров”. Так рассуждал мой соэтапник тов.Артамонов, член большевистской партии с 1912 года, хотя он был опечален этой первой жертвой зверского отношения к арестантам. Смерть тов.Чугунова потрясла нас всех. Артамонов не нашел ничего другого, как заявить, что “будет верить, что все обойдется”. Ему кто-то из наших “спутников” по вагону (кажется, писатель Сергей Буданцев) ответил: “Терпежка хуже каторги”. К сожалению, политика и практика Сталина и его подручных обошлась не одной только смертью нашего товарища Петра Чугунова.
Глава 16
Много тяжелых переживаний было у нас за двухмесячный этап от станции Пресня Окружной Московской ж.д. до ст.Михайловская Дальневосточной ж.д. Всех их не запомнил, но подлую процедуру проверки запертых в товарном вагоне нас, арестантов, никогда не забуду.
Начиналась такая проверка при тусклом освещении вагона поздно вечером, когда мы уже, как правило, спали на своих нарах, тесно прижавшись друг к другу. По команде старшего из пяти конвоиров, производивших проверку, все арестанты одной стороны вагона должны были быстро перебраться на другую сторону. После этого их переполненной половины вагона, опять-таки по команде старшего, каждый арестант в отдельности должен был перейти на пустую половину вагона, причем мимо счетчика-конвоира должны были проходить четким шагом. Эта издевательская церемония изнуряла нас и морально, и физически, но мы ничего не могли сделать, так как остальные конвоиры стояли с ружьями наготове. Однажды, часа два спустя после такой проверки, а следовательно глубокой ночью, “пожаловал” к нам во главе с начальником конвоя весь состав группы конвоиров. Они приказали всем нам перебраться на одну сторону вагона. После этого часть конвоиров приступила к осмотру пола освобожденной стороны вагона. Они предприняли такую операцию из-за того, что начальству померещилось, будто ломали пол в этой части вагона. Нечего и говорить, что для такого подозрения не было никаких оснований. Дополнительная издевка над арестантами была проведена как проявление “бдите-льности по отношению к врагам народа”. Свирепость конвоиров была такая же, как свирепость волков, напавших на овец.
Очень много мытарств мы претерпели в этом пути, который вовсе не был нужен для торжества социализма. Мытарства возникали даже тогда, когда казалось. что они и не должны были возникнуть. Вот один из таких случаев, подобный тому, которому Ф.М.Достоевский посвятил четыре страницы (см.его соч. т.3, стр.514-518). Речь идет о мытье арестантов в бане. В одну из декабрьских ночей остановился поезд, и в камеру-вагон вошли конвоиры с винтовками наперевес. Некоторые держали на цепях собак-овчарок. Нам приказали собраться “с вещами” и выйти из вагона. Мы тут же были окружены дополнительным количеством конвоиров с собаками. Оказалось, что нас ведут в баню. Все мы могли быть только рады этому. Ведь уже прошел целый месяц, как мы не мылись в бане (в тюрьме нас водили в баню каждую неделю). Но каково нам было, когда из-за неслаженности действия конвоиров различных камер-вагонов из того же поезда нас посадили на снег до нашей очереди. Так мы должны были ждать, пока конвой получит сигнал, что предыдущая партия арестантов уже уведена из бани. Не знаю сколько времени мы прождали в этой сидячей очереди на снегу (ведь часов у нас не было). Продрогли мы основательно, ибо вставать, чтобы хоть немного разогреться, конвой не разрешал под угрозой стрельбы по вставшему на ноги. Когда наконец очутились в бане, нас стали подгонять быстрее уйти из раздевального отделения в мыльное. Здесь также надо было торопиться, и мытье вызвало не удовольствие, а злобу. Она увеличилась, когда приведенная следующая очередь арестантов начала стучать из раздевального отделения. Стук со-провождался криками, чтобы скорее убраться из мыльного отделения. По этим крикам мы узнали, что не арестанты нас торопят, а арестантки. Это обстоятельство еще больше омрачило наше мытье. Противно было слушать нецензурные выкрики некоторых из кричавших. Бесспорно, что среди этих арестанток были явно аморальные, или просто проститутки. В правильности такого определения мы убедились, когда один из наших арестантов замешкался при выходе в отделение для одевания и его чуть ли не растерзали. Нам пришлось буквально вырвать своего товарища из рук этих “активисток”. Не мытье получилось от такой бани, а терзание.
“Путешествие” от Бутырской тюрьмы до неизвестной для нас конечной остановки продолжалось. Никто из нас не знал, когда оно кончится. Продолжались и те издевательства, к которым привыкнуть никак нельзя было, хотя повторялись они каждодневно. Конвоиры, потерявшие облик красноармейцев, смотрели на нас как на “врагов народа”, между тем как врагами народа без кавычек были те, кто так муштровал этих крестьянских парней. Несмотря на лютые морозы, количество угля для топки печки с каждым днем уменьшалось, а начиная со станции Омск даже и не каждый день приносили в вагон. Из истории этапов по Сибири известны факты, когда царское самодержавие предоставляло этапникам утепленные сани, что было значительно сложнее, чем сталинским опричникам обеспечить нужным количеством угля отопление вагонов-камер, в которых возили этапников. Когда доехали до ст.Иркутск, то из-за систематической нехватки угля от досок наших нар не осталось и следа. Трудно себе представить, откуда у нас, измученных арестантов, бралась сила, чтобы ломать двухдюймовые нарные доски на топливо, не имея для этого ни пилы, ни топора. С того времени, как нары превратились в топливо, наше ложе было на всей площади вагона, т.е. никакой середины не было, и поверка производилась перегонкой арестантов справа и влево от параши. Отлично помню, что нашего заболевшего товарища, чтобы его не тревожить перегонкой, уложили возле параши. Конвой должен был согласиться с нашим “самоуправством”, и лишь на станции Иркутск этот товарищ был забран из вагона. Куда его забрали, мы, конечно, не знали, но предполагали, что в какую-нибудь больницу. Спустя много лет, а именно в 1956 г., я его встретил в Москве. Он, как и я, был реабилитирован. Пару слов об этом человеке скажу здесь. Его звали Мягкий Владимир Андреевич. Мы с ним не раз встречались в Москве, так как у нас был общий друг по партии Наум Лазаревич Соболь.Тов.Мягкий рассказал, что его из вагона увезли в больницу Александровского централа, т.е. иркутской тюрьмы. После этой больницы его отправили на поселение, где он пробыл до реабилитации. До репрессии он был секретарем Всеукраинского Центрального исполнительного комитета. Одно время он был председателем Кременчугского губисполкома или окрисполкома.
Спустя несколько дней езды после Иркутска нас опять выгнали из вагона с вещами. Мы поняли. что опять будет баня. На этот раз тоже не обошлось без приключений, но другого порядка. Мы оказались в бане вместе с так называемыми, “бытовиками”, считай - ворами-уголовниками (хотя мы все при Сталине считались уголовниками). Действительные уголовники затеяли потасовку, когда стали одеваться, и украли сапоги у наших товарищей, оставив какую-то рвань, в которой они вынуждены брести в 55-градусный мороз до вагона. Вагон, в который нас погрузили, оказался не “наш”, а обыкновенная товарная теплушка, но, в отличие от “нашего” пульмана, оставшегося без нар, с нарами. По размерам эти нары не могли всех нас вместить,и многие опять очутились на полу. Начальник конвоя или недосмотрел, или, может быть, и знал, что пол вагона загажен замороженным человеческим калом, но, так или иначе, нас в этот вагон погрузили. Не поместившиеся на нарах улеглись на этом кале.
Никогда не забыть мне этого места, на котором довелось спать, находясь на путях-дорогах, уготованных Сталиным и его опричниками мне и мне подобным большевикам. Рядом со мной лег на такой же “подстилке” советский писатель Сергей Буданцев. Он что-то такое начал сочинять по поводу нашего ложа, но я ничего не запомнил, да и сам он сказал, что у него ничего не получается из задуманного (ведь писать было не на чем). Помню лишь его слова, что его земляк-тезка Есенин, которого он знал, по такому поводу, как ложе из кала, сочинил бы ядреное стихотворение. Может быть, Сергей Буданцев в иной обстановке написал бы что-нибудь интересное, но из-за тяжелой болезни (базедовой) и тяжелого этапа он погиб и, должно быть, посмертно реабилитирован. Такой вывод я делаю потому, что не так давно продавалась его книга “Учительница”. В моей домашней библиотеке есть эта книга. Я ее храню как память о моем соэтапнике, товарище по несчастью. С.Буданцев не был членом большевистской партии. Может быть, кое-кому эти факты покажутся не настолько значительными, чтобы их фиксировать, но я смотрю на это иначе, поэтому и запечатлеваю их на бумаге для того, чтобы они могли быть когда-нибудь оценены с большевистских ленинских позиций.
Со времени движения этапа по ж.д., т.е. с 19 ноября, прошло более полутора месяцев. Наступил январь 1939 г., но мы были еще в пути. Что-нибудь в середине января, на этот раз в дневное время, поезд остановился, раздвинулась дверь, и выпрыгнувшие конвоиры стали около нее. Вскоре подошел к открытому вагону начальник конвоя и приказал всем выйти. Помимо конвоиров, которые были в вагоне, на путях возле вагона стояли еще с десяток конвоиров с собаками, которые тут же нас окружили. Был январский день, но он оказался не холодным. Это, конечно, нас обрадовало. Несмотря на дневную пору, мы не видели вокруг себя никого, кроме конвоиров и собак (немецких овчарок), довольно хорошо откормленных. Спустя какой-то час мы узнали, что находимся на станции Михайловская Дальневосточной железной дороги. Для меня это было осо-бенно ошеломляющим известием. Это объясняется тем, что с 1933 г. по январь 1936 г. я работал на этой железной дороге, вначале начальником политотдела 3-го отделения, а затем председателем дорпрофсожа этой дороги. Если к этому добавить, что станция Михайловская, как я тогда вспомнил, находилась на расстоянии одного пролета, т.е. двух десятков километров, от ст.Никольск-Уссурийск, где помещалось 3-е отделение Уссурийской ж.д. и его политотдел, то легко понять, что ни на кого из моих товарищей по этапу известие о том, где мы находимся, не могло произвести такого впечатления, как на меня. Нечего говорить, что в той обстановке я ни с кем не мог поделиться моими переживаниями.
Глава 17
Наше первое “приземление” после Бутырской тюрьмы состоялось потому, что везти нас дальше к месту длительного заключения - концлагерю - нельзя было из-за разразившихся среди огромного количества арестантов, собранных на пороге Колымы - во Владивостоке, - эпидемий всяких болезней.
Пребывание в этом лагере было не менее тяжким, чем в тюрьме и этапном вагоне-камере. Можно сказать, что трехмесячное пребывание в этом лагере было более зловещим, чем все предыдущее. Достаточно привести в пример такой факт, как помещение нас в один барак с уголовниками. Уголовники, для которых тюрьма и лагерь считаются “родным домом”, в первый же вечер совместного пребывания с ними, устроили нам настоящий погром, который длился с утра до следующего дня. Это была ночь, похожая на варфоломеевскую. Мы все были ограблены и многие избиты и даже ранены. Для подготовки разбоя староста барака, он же уголовник, с вечера распорядился, чтобы в бараке был свет от керосиновых ламп. Этот свет для нас, “врагов народа”, был страшнее мрака. Лишь на третьи сутки разгул бандитов утих, потому что начальство лагеря приняло, наконец, какие-то меры, которые должно было предпринять в самом начале разгула. Если мои соэтапники могли в данную пору выходить из барака, где царствовал хаос, то у меня не было возможности это сделать, так как из-за больной ноги лежал неподвижно. В таком положении я был недели две, пока меня не поместили в лечебный стационар. Здесь я был свидетелем каждодневных смертей арестантов. Смерть одного такого, который лежал рядом со мной, мне хочется здесь отметить. Когда этот умирающий агонизировал, появились санитары из уголовников. Зная, что у умирающего были золотые зубы, они начали вырывать их еще при агонии. На крики и протесты против такого кощунства начальство стационара никак не реагировало. В это время во главе ведомства, занимавшегося репрессиями, стоял избранник Сталина - Берия. Начальство лагеря, допустившее такой вандализм, оказалось вполне достойным этого изменника Берия..
О житье-бытье в этом лагере можно вспомнить много мерзостей. Они происходили в среде уголовников, в числе которых были и женщины. Их жилища были, правда, отгорожены от мужчин проволочными заграждениями, но это не мешало тому, что “любовные свидания” через эти заграждения проходили у уголовников обоего пола на глазах остальных арестантов.
Как будто до сих пор ни разу не упомянул о пище, которой нас кормили. Кратко это можно сформулировать так, что постоянно чувствовался голод, а голод, как известно, ранит человека сильнее, чем удары бычьих рогов на арене. Однажды в неурочное время, почти в полночь, в барак принесли “ужин”. Староста и его помощники разносили по нарам, на которых мы уже улеглись на ночь, каждому заключенному его порцию в глиняной посуде. Не знаю, как другие арестанты отнеслись к этому ужину, но я благодарил господа-бога за царившую темень в бараке. Это не давало возможности разглядеть, что это за ночное “угощение”, и я проглотил какую-то жижу. На следующий день в бараке среди нас только и разговоров было о том, что представляла вчерашняя ночная жижа. Через пару деньков многие из барака заболели желудочными заболеваниями. Меня болезнь обошла, но тошнота чувствовалась долго. Несмотря на наступившее весеннее время, тусклость и мрачность дней в этом лагере были “темнее непогодного дня” (Некрасов). Арестанты бродили внутри ограды, обнесенной колючей проволокой, оборванные и обтрепанные. После погрома и грабежа некоторые были обуты в немыслимую обувь - на одной ноге мужская, на другой женская. Запомнился мне Сергей Буданцев, который был одет, вместо забранного у него пальто, в какую-то дырявую дерюгу из мешков. Он был страшен со своими сильно выпученными глазами. Лагерное начальство относилось к нам не так, как к своему постоянному “говорящему инвентарю”, так как мы числились и принадлежали Владивостоку, куда нас везли. О тех арестантах, которые “отдавали концы” в этом лагере, начальство составляло какие-то акты и отдавало конвою, приведшему нас сюда. Конвой наш тоже временно оставался в этом совхозе. В начале марта 1939 года кончился карантин во Владивостоке, и нас, оставшихся в живых, отвезли опять в телячьих вагонах под строгим конвоем с собаками.
Глава эта затянулась, но хочу в ней поместить все, что запомнил об этапе по “каторжному проспекту” от Москвы до Колымы. Не помню, сколько времени прошло на переезд из Михайловского совхоза до Владивостока, но, должно быть, в конце мая или, самое позднее, в начале июня 1939 г. этап, в котором я был, прибыл на Черную (правильно – Вторую) речку - пригород Владивостока. В эту пору было довольно тепло. Мы были поселены в одном из многочисленных бараков. Весь этот пригородок был обнесен большим числом вышек, на которых постоянно стояли вооруженные часовые. Одним словом, тюрьма без каменных стен, но с запорами на деревянных бараках. Группы бараков назывались зонами. Во главе этих зон были начальники, а во главе бараков были коменданты, назначенные из заключенных, но “друзей народа”, т.е. уголовников. По сравнению с бараками в Михайловском лагере здесь было чище и просторнее. Бараки, в которые нас поселили, назывались “вагонками”.
Первые 3-5 дней дышалось как-то легче, в особенности днем, когда не были заперты двери. Благодаря тому, что “друзья народа” разбредались по зонам тюремного города, а мы, “контрики”, оставались в бараке или возле него, издевательства над нами уменьшились. Во всяком случае, мне так казалось. Возможно, это было потому, что я уже немного привык к своему окружению. Это отнюдь не означает, что я привык к состоянию пленного в своей же стране. В отличие от Михайловского, начальство этого огромного лагеря распорядилось, чтобы нас использовали на принудительных работах. Я пишу слово “нас”, не имея на то полного основания, ибо нас было так много, что я не мог знать, как поступают со всем огромным количеством арестантов. После одной из утренних поверок на линейке возле “своего” барака обитатели его были разбиты на группы, названные бригадами, и отправлены на принудительные работы. Прошло около полугода со времени, как не видел обыкновенных улиц, поэтому мне показалось очень необычным движение по каким-то городским улицам. Много лет истерли в моей памяти названия тех “объектов” (они каждый день менялись), на которых приходилось работать в месяцы пребывания во Владивостокском лагере. Название одного объекта мне никогда не забыть из-за произвола, учиненного надо мной конвоиром. Объектом этим была каменоломня. Мне надлежало, по указанию бригадира, перетаскивать камни с одного места на другое. Камни, разумеется, были разные по своим размерам. Один из них оказался очень большим и тяжелым для меня. Перетащить его мне удалось лишь сделав остановку для отдыха, т.е. в два приема. Это не понравилось конвоиру, и он тут же изобрел меру наказания за такую вольность. Оно выразилось в том, что по приказу конвоира-зверя я должен был сесть в таком положении, при котором мои ноги были бы на уровне головы. Так я сидел не менее получаса. Нечего и говорить, что жаловаться на такие и подобные издевательства было некому. В то время покорность жертв не имела предела. Передача нас во власть озверевших конвоиров была правилом. Они оценивали результаты работы арестантов и определяли норму хлеба для выдачи нам.
Все мы как манны небесной ждали конца этапа. Говорили, что он наступит, когда нас привезут в Колыму. Здесь уже стало известно (хотя и не официально), что именно туда нас направят. “Знатоки” утверждали, что на Колыме лагеря упорядоченные и там мы не будем во власти конвоиров. Может быть, поэтому мы жаждали скорее прибыть в места обетованные, где “12 месяцев зима, а остальное - лето”.
В связи с пребыванием во Владивостокских лагерях у меня в памяти остались два факта, о которых считаю нужным сказать несколько слов. Однажды, возвратившись с работы (может быть, из упомянутой каменоломни), но еще не зайдя в барак, я сквозь щель деревянного забора увидел знакомого мне с воли человека. Это была Софья Андреевна Межлаук. Подойдя к забору (боже сохрани, не очень близко, ведь колючая проволока мешала этому), мы с Софьей Андреевной перекинулись несколькими словами. Она мне сказала, что тоже уже долго находится в заключении и теперь уже точно знает, что ее отправляют на Колыму. Еще она говорила, что имеет очень смутное представление о том, в каком положении ее две дочери,хотя она время от времени получает известия от родных и даже посылки. На этом наш разговор закончился и, к сожалению, больше не возобновлялся. На второй день соседство с женским двором исчезло. Весь этот двор был отправлен в этапе на Колыму, как и сказала накануне т.Межлаук1. В этот день, придя с работы, я не успел еще отдохнуть, как меня вызвал в кабинку “культурный” бытовик-комендант и грозно крикнул: “Как ты смел установить контракт (так он сказал, вместо слова “контакт”) с женской зоной?” Я несколько растерялся, но именно потому, что никакого контакта я не успел установить, я отпарировал его обвинение примерно следующим образом: “Во-первых, не кричи на меня,ты ведь не настоящий вертухай, во-вторых, женской зоны по соседству уже нет и из этого “контракта” ничего не может получиться, в-третьих, я уже старый арестант и никого не боюсь”. Должно быть, ему понравилось, как я реагировал, и он тут же сменил гнев на милость и сказал: “Молодец, пахан2, вот тебе гостинец”. И вручил мне небольшой матерчатый сверток (не бумажный, боже упаси). В нем оказался кусок свиного сала, несколько кусочков сахара и что-то вроде пирога. Все это передала С.А.Межлаук. Я поблагодарил своего “грозного” коменданта и сказал на прощание: “Недаром я не считал тебя настоящим вертухаем”. На этом кончился эпизод контакта с бывшим моим товарищем по партии С.А.Межлаук.
Второй эпизод из того времени - это моя работа на одной из строек во Владивостоке. Как-то погнали бригаду, в которую меня включили. Начальство не постыдилось,что мы были оборванные и обтрепанные, и не сочло для себя неприличным послать нас в город в таком виде. Ведь нам встречались люди, но об этом, видимо, никто не думал. На второй этаж этой стройки надо было таскать кирпичи. Бригадир снарядил на это и меня, причем с определенной целью,которую он мне поведал, сказав:“Снесешь пару раз кирпичи,а затем забьешься где-нибудь в угол этажа и там будешь до конца работы, т.е. до поверки перед отправкой в лагерь”. Я так и сделал. Вечером, уже в бараке, бригадир рассказал, почему он так распорядился. Оказалось,что он знал меня по началу Гражданской войны в Одессе и хотел хоть немного выразить свое расположение ко мне, как к старому человеку и старому большевику. Бригадир этот и теперь здравствует. Его зовут Максимов Алексей Львович.После реабилитации он стал кандидатом экономических наук. Встречаясь со мной изредка, он всегда вспоминает, как ему удалось сделать, чтобы “подвластный” ему арестант мог целый день поспать.
На той стройке наша бригада продолжала работать еще какое-то время. Меня приставили к какому-то “механизму”, при помощи которого из проволоки изготовлялись гвозди. Этот механизм помогал очень неэффективно. У меня появилась идея произвести небольшое усовершенствование в механизме, которое значительно увеличило бы производство гвоздей. Забыв, что начальство ко мне относится с недоверием, я предложил свое усовершенствование, но производитель работ (прораб) напомнил мне мое положение, сказав: “Обойдемся без рацпред-ложения заключенного”. На этом закончилась моя попытка облегчить труд, а государственный работник, производитель работ, выполнил строгое указание: быть бдительным. Известно, что такое указание царило над всем.
Во Владивостокских лагерях я продолжал оставаться, должно быть, до мая включительно. Наконец, настал день, точнее ночь, когда начали грузить, да, именно грузить, арестантов, чтобы отправить их на Колыму. Четвероногий скот грузили бережнее, чем нас. Прежде чем попасть на морское судно нам предстояло быть переправленными на открытых баркасах с берега до того судна. В ночной темноте эта переправа была и утомительна, и небезопасна. Не помню, сколько времени прошло,пока нас начали размещать по трюмам “Джурмы” (так называлось судно), но, наконец, и это тяжелое переживание кончилось.
Очутившись в трюме, можно было ужаснуться, увидев огромное количество людей, находившихся в нем. Все мы были так тесно размещены на нарах, как не были ни в одной тюрьме до этого. Подняться со своего места, чтобы хоть сколько-нибудь пошагать по трюму, было никак не возможно, так как вся площадь трюма была усеяна заключенными, т.е. арестантами. Старостам приходилось буквально фокусничать, чтобы добраться до какого-нибудь арестанта для выдачи ему более чем скудной пищи. Она состояла из сухарей (после того. как запас хлеба кончился) и селедки. Вода нормировалась жестче, чем все остальное. Настоящее праздничное состояние наступало в те минуты, когда нас выпускали на палубу для отправления естественной нужды. В силу малой пропускной способности установленных на палубе уборных конвоиры, сопровождавшие арестантов в это путешествие, гнали нас во всю ивановскую, покрикивая, как на настоящий скот. Можно не сомневаться, что многие обреченные предпочли бы положение действительной скотины, которая может свои естественные отправления совершать там, где стоит или лежит. В такой нечеловеческой обстановке мне довелось пробыть порядка десяти дней и ночей. Кошмар от этого участка этапа увеличивался еще тем, что в этой обстановке гибли множество людей из наиболее слабых, а трупы их выбрасывались в море. Эти и подобные факты, имевшие место в нашей стране, не могут быть забыты. Они должны стать известными тем, кому посчастливилось не видеть этих зверств.
Этап, длившийся с ноября 1938 г. до июня 1939 г., наконец, кончился1. Семимесячное “путешествие” по суше и по морю завершилось в магаданском порту Нагаево. От одного воспоминания об этом путешествии содрогаюсь, а каково было состояние при непосредственном переживании тех невзгод, которые были на этом пути? Думаю, что однозначный ответ на этот вопрос никто не даст. Порт Нагаево находится на большом расстоянии от Магадана. Печально знаменитый Колымский край пополнился многочисленным отрядом заключенных. Нас привели на какую-то площадь Магадана и приказали раздеться догола, а все свои лохмотья бросить тут же. Начальство УСВИТЛа (Управления Северо-Восточными трудовыми лагерями) и Дальстрой пошли на радикальную меру при приему в свое распоряжение привозимых заключенных. Во избежание всякой возможности занесения инфекции с одеждой, было приказано сжечь все, что было на нас. Можно считать, что эта мера была рациональной. Не знаю. как другие заключенные отнеслись к этому, но мне было очень приятно расстаться с лохмотьями, в каковые превратилась моя одежда за время пятнадцатимесячной трепки в тюрьмах и этапах, ведь ни разу не представилось возможности даже раздеться. Нам выпал случай вдоволь помыться в бане, где тогда было достаточно воды, как холодной, так и горячей. За время пребывания в заключении как до этой бани, так и еще много лет после нее, до полного освобождения, а именно до 1955 года, такое обыденное удовольствие, как вода в достатке в бане, бывало нечасто. Поэтому отмечаю этот факт, чтобы в дальнейшем не касаться банных дел. Итак, помывшись на этот раз вдоволь, мы получили новую одежду, которая называлась одеждой “первого срока”. По размерам она не во всех случаях была по комплекции арестанта, но это уже не так важно, по крайней мере для меня это не было важно. Могу утверждать, что испытал настоящее удовольствие, когда после многих месяцев оделся в чистую одежду.
Из бани нас отправили (конечно, под конвоем) в какие-то бараки, которые были пусты, когда мы вошли в них. Спустя не более пяти дней я был привезен на золотой прииск по названием “Борискино” и в числе еще двадцати пяти таких же з/к стал золотодобытчиком.
Глава 18
С момента прибытия на этот прииск наступила по существу совершенно новая пора на моих путях-дорогах. Дело, конечно, не столько в том, что привычные для меня инструменты: напильник, резец, штангенциркуль и т.п. - инструмент металлиста - сменился инструментом для землекопа, а в том, что в родной стране меня поставили в положение каторжника без какой-либо вины перед ней. Можно ли считать, что главный руководитель страны не знал об этих фактах из жизни членов правящей страной партии? Если бы такое беззаконие коснулось лишь меня, то беда была бы не так велика, но это беззаконие искалечило жизнь многих тысяч и сотен тысяч большевиков. Пусть не все детали этих злодеяний были известны главному руководи-телю - И.Сталину, - но все основное он знал и не имел права не знать. Решил приклеить на полях этой страницы вырезку из газеты “Правда” от 10 июля 1972 г., которая полностью подтверждает правильность этого абзаца: “Знал ли председатель Смелянского райисполкома С.П.Пилипенко, что он подписывает решение о продаже автомашин на льготных условиях тем “свекловодам”, которые едва могли бы отличить сахарную свеклу от кормовой? Но даже если и не знал, то это лишь возлагает на него ответственность за полную бесконтрольность”.
Потянулись дни и ночи (на прииске была сменная работа), похожие друг на друга, как сплошные серые туманы. Я научился пользоваться новым для меня инструментом. Что касается лома и лопаты, то - без чьей-либо помощи, а катать тачку меня научил сосед по магаданскому бараку Касимов Ибрагим Касимович. На воле он был учителем математики в одной из школ города Казани. На Колыме он сделался моим учителем по катанию одноколесной “машины” - тачки. Я ему был благодарен за это, ибо это избавило меня от “учебы” у какого-нибудь уголовника, вроде нашего бригадира Бондаренко.
Хочу рассказать о трех фактах, происшедших на этом прииске. Однажды на поверке Бондаренко обратился ко всем нам с вопросом, кто из нашей бригады знаком с двигателем внутреннего сгорания. Я оказался единственным. Как только нас доставили из лагеря на место работы, Бондаренко сообщил производителю работ, что есть человек, знакомый с работой двигателя, и тут же указал на меня. Прораб отправил меня работать к двигателю. Нечего говорить, что для меня, 43-летнего человека, работа у двигателя была легче. Кроме того, я действительно знал эту работу больше, чем работу с ломом и тачкой. Не прошло и трех дней, как приисковое и лагерное начальство узнало, что “враг народа” Величко-Оксман работает у движка, и распорядилось, чтобы я был немедленно отправлен в забой., т.е. где добывалось золото, даже не дожидаясь конца смены. Горечь от этого возвращения к тачке не намного, но увеличилась. Мой бригадир Бондаренко в данном эпизоде не повинен. Не был повинен и прораб в отправке меня обратно в забой. Первую скрипку в таких “концертах” играли шибко бдительные стражи режима повыше рангом. Вернувшись в забой, я не застал там моего учителя Касимова. Несмотря на то, что он умел водить “машину” на одном колесе, из-за плохих трапов он поскользнулся и сломал себе ногу. Когда он вернулся в барак из стационара, где лежал из-за перелома, то сказал мне, что считает себя счастливым, потому что его больше не погонят в забой. Совсем от работы его не освободили, а заставили работать в зоне лагеря, хотя он еще сильно хромал.
Всех грустных эпизодов на этом первом для меня прииске я не запомнил, но кое-какие навсегда останутся в моей памяти, и я решил их здесь изложить. Ведь нельзя не рассказать о таком эпизоде. Со мной на пару работал один молодой человек без носа. Вопреки моему пред-положению, что нос отсутствует из-за венерической болезни, оказалось, что у этого молодого человека он был отморожен еще в 1937 г. - в первый год, когда этот бедняга был привезен из Чечено-Ингушской республики, где работал секретарем комсомольской организации. Я даже запомнил имя этого чеченца. Он говорил (гнусавил), что по-русски его имя Илья. Не знаю его дальнейшей судьбы. Возможно, его все-таки сактировали как инвалида. (Через три года, т.е. в 1942 г., на “командировке” Усть-Утиное я видел арестанта, которому пришили нос из мяса своей же руки. Этот бедняга был не южанин, а сибиряк.)
Вот и такой “эпизод”, приведший к гибели человека на том же прииске “Борискино”. По технологии, чтобы добраться до золотоносных песков, нужно предварительно снять так называемые торфа (каменная порода), лежащие на этих песках. Для этого площадь покрывается “бурками” (ямками глубиной около метра с диаметром порядка 300-400 миллиметров). В эти бурки закладывают взрывчатые вещества (аммонал) и производят взрыв. Все это требует обезопасить людей, работающих на этой площади, но и сами люди должны об этом думать. Не так поступил один из арестантов. Он не ушел вовремя от места, где бурил бурку,и был убит взрывом. Знакомые этого человека, которые вместе с ним жили в одном бараке, говорили, что погибший был из Барнаула, где заведовал Оргинструкторским отделом горкома ВКП(б).
Вот еще один эпизод, имевший место тогда же, который касался меня лично в связи с тем, что я был поставлен выдалбливать бурки. Мне не удалось своевременно полностью закончить одну из них. Это, конечно, несколько задержало взрыв. “Мой” бригадир, вор Бондаренко, счел за лучшее наброситься на меня - не с руганью, а с целью избить. Я воспользовался тем, что для работы был вооружен ломом, и стал обороняться. Если бы не подоспел вольнонаемный десятник, острие лома оказалось бы в животе Бондаренко. Мой решительный отпор отрезвил бригадира, и с тех пор он не позволял себе рукоприкладство к своим подчиненным.
Не буду в претензии к тем, кто посчитает, что можно было бы не писать об этих эпизодах. Для себя же считаю, что не мог о них не писать. Ведь именно такие “мелочи” и воссоздают правильный фон всей той каторжной обстановки, говорят о том кошмаре, который охватил сво-ими клещами людей, преданных нашей Родине. Один эпизод на этом прииске был для меня радостным. В положении, в котором я находился, эпизод этот оказался настоящим светлым или даже чудесным событием для меня. Вот что случилось.В лагере производилась очередная санитарная обработка бараков. Списки “жильцов” этих бараков находились в санчасти лагеря. Когда очередь дошла до барака, в котором я жил, меня почему-то вызвали первым, да еще к самому начальству санчасти. Мое удивление еще более усилилось, когда этот начальник начал не с того, чтобы меня освидетельствовать, а с вопроса, знаю ли я такого-то человека (и назвал его фамилию). Человека этого я знал по “воле” и очень давно, еще со времен совместного пребывания в Красной Гвардии в 1917 и 1918 гг, да и по совместной работе в тылу у белых и петлюровцев. Оказалось, что начальник санчасти, прочитавший список арестантов, в котором я находился, обнаружил мою фамилию, которая была ему известна из рассказов его шурина, того самого, про которого он меня спрашивал. Начальник санчасти оказался замечательным человеком. Судьба его была такой же, как и у многих других большевиков,хотя и более молодо-го поколения, чем мое. Он получил медицинское образование и успел стать ученым в своей области - микробиологии. Многие месяцы он, как рядовой арестант, был на “общих” работах и, обессилев от тяжелой работы с тачкой, был определен в санчасть. Мы познакомились с ним довольно близко. Я узнал его фамилию, имя и отчество. Это был бывший ректор Киевского университета и делегат ХVII съезда ВКП(б). Для меня он стал уже не начальником, а товарищем Кушнаревым Михаилом Андреевичем. В редкие свободные минуты после тяжелого дня работы в забое мне удавалось увидеться с ним в его кабинете при санчасти. Приходил я не в качестве больного, а с желанием поговорить по душам о том, что происходило вокруг нас и с нами, поговорить о его шурине, моем товарище, который в то время тоже был где-то в заключении. Не могу не упомянуть и о той материальной, т.е. жратвенной, помощи, которую он мне оказывал. Он располагал такой возможностью и потому, что получал посылки от своей жены Риммы Михайловны, и потому, что в положении начальника санчасти был лучше обеспечен, чем рядовые арестанты. Эта помощь имела значение, но главное было в том, что разговоры с ним были всегда насыщены блестящими его мыслями и освещали наше горестное положение. На мои рассуждения о происходящем в нашей стране он реагировал всегда очень правильно и остроумно. Не забуду и то, как он “окрестил” меня за мои рассуждения. Он назвал меня “племянником Маркса”. Спустя много лет, уже в Москве, я, встречаясь с Риммой Михайловной Кушнаревой, узнал, что она получала от Михаила Андреевича письма, в которых он ей писал о встрече с товарищем ее брата, т.е. со мной, которого он окрестил таким именем. Возвратившись из колымского заключения, Михаил Андреевич был арестован вторично и сослан в Красноярский край. К нему поехала его жена. По ее словам, она много раз слушала его рассказ о “племяннике Маркса”. К моему горькому сожалению, мне не довелось после Колымы видеть Михаила Андреевича. Он погиб во цвете лет в красноярской ссылке.
Поздней осенью 1939 г. я уже был вполне “опытным” гонщиком тачки с золотоносным песком от забоя до бункера бутары1. В такое время на Колыме уже вступает в свои права зима, и морозы сужают фронт промывочных работ. Арестанты в эту пору начинают подумывать о том, что их ждет, куда их погонят из “обжитой командирвки”, какую придется выполнять работу. Для меня она могла быть только тяжелой. На моем “деле” было написано: “использовать только на тяжелых работах”.
В один из осенних дней мимо забоя, в котором я работал, проходил человек, вид которого не вызывал сомнения, что это “вольняшка”. На таких людей, т.е.вольнонаемных, приехавших за длинным рублем, были направлены особенно пристальные взгляды арестантов. Кто-то из моих товарищей сказал, что этот “вольняшка” является механиком прииска. У меня сразу возникло желание поговорить с этим человеком и просить его использовать меня в качестве токаря по металлу. Я догнал его и высказал ему свое желание. Надо сказать. что этот механик не проявил никакого чванства: остановился, выслушал меня довольно внимательно и сказал, что прикажет конвою привести меня в его контору вечером того же дня для более обстоятельного разговора. Меня это удовлетворило и даже ободрило. Возможно, что после этого разговора я интенсивнее гнал тачку по трапам, уже солидно обледеневшим.
В этот вечер я никуда не выходил из барака, ожидая прихода за мной конвоя. Даже вечернюю баланду в лагерной столовой я проглотил быстрее обычного и хорошо сделал, потому что, как только вернулся в барак, за мной пришел конвоир и велел следовать за ним. Хотя конвоир, как всегда, не говорил арестанту, куда его ведут, но я в данном случае был уверен, что он ведет меня к механику. Я не ошибся. Через полчаса пути по поселку, расположенному за оградой лагеря, меня в сопровождении конвоира впустили в барачное помещение, где находилась контора механика. Все здесь казалось мне необычном. Ведь почти два года я не видел никакой другой обстановки, кроме тюремной или лагерной. Сидевший в конторе человек сказал, что надо ждать прихода механика, ибо он сам не может принять решение о зачислении меня токарем в механические мастерские прииска. Ожидая механика, я разговорился с этим человеком. Он назвал себя секретарем механика и оказался тоже з/к, а в прошлом был инженером в МОГЭСе. Назвав статью уголовного кодекса (помнится, 35-я статья), по которой он арестован, он меня удивил. Ведь эта статья, как известно, применялась к лицам беспаспортным, а он много лет работал в Москве. Мой собеседник (так и не запомнил его фамилии) заметил мое удивление и заявил, что он рад, что ему “припаяли” эту статью. Это дало ему возможность сидеть здесь, в конторе, и заниматься хоть небольшими, но техническими вопросами, а не катать тачку, на что обречены все “контрики”. Разговор с этим неконтриком оборвался из-за того, что конвоир не захотел больше или не имел права держать меня вне лагеря, а поэтому предложил мне кончать ждать механика. Я должен был подчиниться. Секретарь по-своему старался меня успокоить, сказав, что если бы механик и пришел, как обещал, и решил бы меня зачислить токарем, то все равно работать мне не пришлось бы по той причине, что в мастерской работают только “друзья народа”, а такие как “контрики” не допускаются. Он прибавил при этом, что высшее начальство прииска тоже будет на стороне “друзей народа”, а механик числится лишь в среднем звене, да еще сам недавно был з/к. Не могу сказать, чтобы меня это успокоило, но делать было нечего, и я ни с чем был приведен в лагерь.
Тут я должен оговориться: не совсем верно было сказать, будто я вернулся в лагерь ни с чем. Впечатления от услышанного в конторе и увиденного по дороге оставили у меня в памяти большой след. Чтобы закрепить этот след, уделю еще несколько слов тем впечатлениям, которые его создали. По дороге из лагеря и обратно я видел обыкновенные постройки, в окнах которых горел обыкновенный свет электрических лампочек. В одном здании помещалась телефонная станция, и в окне виднелись обыкновенные телефонистки. Даже увиденный мной обыкновенный стул вызвал у меня удивление, так как прошло почти два года, в течение которых я успел отвыкнуть от этой обыкновенной человеческой утвари. У меня возник рой мыслей от того, что увидел людей, ходящих по поселку без конвоя. В числе встреченных был даже один человек, которого я знал по фамилии. Он незадолго до этого был освобожден из заключения. Об этом бывшем арестанте Воропаеве хочу сказать несколько слов, потому что они немало продемонстрируют ту обстановку, которая была у нас тогда в стране. Воропаев был колхозником. В 1936 г. он был арестован из-за того, что без разрешения поехал в Кострому проведать своего сына. Суд осудил его на три года заключения. Два с половиной года из этих трех его держали в лагерях недалеко от Костромы. Когда осталось еще полгода до конца срока, его отправили в колымские лагеря. Из-за длительности этапа в этих лагерях побыл месяца четыре. По окончании срока, когда его вызвали для получения документа об освобождении, он не захотел освобождаться. При всем тогдашнем беззаконии, его не могли оставить в лагере. Мотивировал он свой отказ освободиться тем, что в колхозе он голодал. Ему посоветовали остаться “вольняшкой”,т.е. работать за плату.Он принял этот совет и продолжал работать в забое как вольнонаемный. Все это он рассказал нам, з/к, работавшим с ним рядом в забоях. Этим рассказом Воропаев напомнил мне зеленщика, о котором Анатоль Франс писал, что его герой мечтал попасть в тюрьму, чтобы согреться и поесть. Воропаев в заключение сво-его рассказа сказал, что он уже выписал к себе из Костромской области свою семью. Внезапность оборвала все мои мысли и надежды о работе токарем на этом прииске, так как на следующий день меня отправили этапом на другой прииск. У меня не было возможности попрощаться с моим М.А.Кушнаревым, которого назову по-достоевскому:“Экой милый человек”. Он полностью заслужил такую характеристику, как, должно быть, заслужил фельдшер Александр Степанович, передавший Достоевскому “могильные записки Диккенса”..
;;;;;;;;
Комментарий публикатора
С повествовательной нитью данных воспоминаний начинают все более диссонировать вклинивающиеся в нее рассудочные пени на “главного руководителя страны”, злодейство коего якобы состояло в репрессиях, направленных на членов “правящей партии”. Даже в цитате из газеты 1972 года автор увидел лишь подтверждение своему тезису об ответственности именно Сталина за то, что “беззаконие искалечило жизнь многих тысяч и сотен тысяч большевиков”, но не уродство системы, построенной его же, автора, правящей партией, когда право купить автомашину предоставлялось лишь “свекловодам”, но осуществлялось по решению ничтожного советского князька, вынужденного угодничать перед своими партколлегами, которые боролись за личную “светлую жизнь” вдали от свекольных полей. Судьба автора в интервале его жизни от 40 до 59 лет, конечно же, не что иное как искупление его соучастия, хоть и не злонамеренного, в большевистском эксперименте над такими людьми как безносый чеченец Илья и костромской колхозник Воропаев. Сталин, действительно, предал своих “функционеров” тому безмолвствующему народу, который вкушал не только сладкие, но и горькие плоды большевизма. Для такого народа факт возмездия своим “врагам” был по душе и намного более значителен, чем параноидальность конкретных формулировок их вины. Сталин все это “просек”, в отличие от массы своих верноподданных. Его “иезуитство” состояло именно в том, что этим он надолго отвел вину от самого себя и от того вероучения, которое породило большевизм. И, может быть, хотя бы часть тех, битых на допросах, кто подписал признания в своих вымышленных преступлениях, фактически хотели покаяться тем самым, единственно остававшимся им способом в своей действительной вине перед людьми, которая состояла не столько в личных деяниях каждого, сколько в коллективной безответственности членов “правящей партии” перед управляемыми, в их слепой вере вождям, в железной дисциплине подчинения “большинству”, которая и является сутью “большевизма”. Дядя Сема никогда ничего “не подписал” и очень гордился этой своей стойкостью перед изуверами-следователями (включая того, кто, не ограничившись побоями, мочился на его голову, о чем в тексте умалчивается). Но в основе этого мужественного поведения было лишь утверждение своей непогрешимости перед партией, тогда как он и ему подобные были повинны именно в стойком отстаивании непогрешимости самой этой партии и той системы идей, которой она прикрывала свою практику.
;;;;;;;;;;
Глава 19
Второй для меня прииск назывался “Сентябрьский”. Говорили, что этот каторжный пункт, а на колымском языке - командировка, так назван потому, что в каком-то сентябре там обнаружили золотоносные пески. Первое впечатление от этого прииска у меня создалось такое, что бараки для заключенных были обнесены значительно большим количеством вышек, в которых стояли вертухаи - стража. Оказалось, что такая густота вышек сооружена потому, что командировка была “штрафная”. За какую вину я был отныне водворен в штрафную, мне было неизвестно. Никаких формальных приказов или распоряжений о дополнительных репрессиях арестантам объявлять не обязательно. Для определенных категорий заключенных, к какой я принадлежал, а именно с клеймом “КР и ТД” репрессии проводились по указанию “сверху”. Новая командировка была характерна новыми, ужесточенными репрессиями, столь же необоснованными,как и все предыдущие,начиная с 1936 г. На этой командировке мне довелось провести первую колымскую зиму.Здесь мне также довелось превратиться в тягловую силу, не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Кратко опишу это “чудесное” превращение.
Стояла зимняя пора, хотя по календарю была лишь поздняя осень. Но на Колыме другой календарь. Работа в забое проводится не при помощи одноколесной “машины” - тачки, а при помощи короба. Это деревянный ящик емкостью в 2-3 кубометра на санных полозьях. В короб, наполненный “торфами”1, впрягаются четыре двуногих лошади и отвозят его из забоя на определенное место, которое называлось отвалом. Работа при помощи лопаты, лома и кайла мне уже была знакома. Здесь я освоил такие приспособления как короб и лямка. Признаюсь, до этого я не знал подлинное значение выражения “тянуть лямку”. На этом каторжном пункте я на своей шее узнал, как людей превращали в лошадей посредством этих лямок. Такое превращение не было кратковременным эпизодом, а носило характер системы. Лямки - они же вожжи и одновременно оглобли. 12-14 часов такого труда изнуряли нас невероятно сильно. Работа велась в две смены. Трудно сказать, когда было утомительнее, в ночную или дневную. Судя по разговорам двуногих лошадей, ночью было не так утомительно. Это следует объяснить тем, что в ночную смену присмотр за нами был слабее, и мы позволяли себе чаще устраивать “перекур с дремотой”.
Прииск “Сентябрьский” был мне особенно тягостен и потому, что часто вспоминал предыдущий, где я имел такое неожиданное удовольствие как знакомство с М.А.Кушнаревым. Лишение общения с этим человеком дополнительно действовало на мое общее состояние полного одиночества. Ни от кого из моих родных я не имел каких-либо вестей, однако унынию не поддавался. Уныние многих сводило в могилу (безымянную, лишь с биркой на ноге)... В декабре 1939 года я даже отважился на эксперимент “поэтического” порядка, который был вызван тем, что один мой товарищ по упряжке в ночь на 21 декабря сказал, что в эту ночь следовало бы не работать, а праздновать 60-летие Сталина. Это было сказано как будто без иронии. Я подумал и решил создать на эту тему что-то стихотворное. Не могло быть и речи, чтобы осуществить свое решение в письменном виде, а все же слова такого стихотворения я придумал. Вот какие это были слова, которые много лет спустя написал на бумаге:
Сатрап там правит оргию под знаком Октября. Тюрьмы, каторги наполнил лучшим людом неспроста, Армию Красную разрушил, уничтожив ее цемент, Ленинскую гвардию - революции инструмент, Изменив партии, классу, Назвав все это борьбой с Империализмом, проявлением Оптимизма, даже Социализма, и всяким прочим “Измом”, только не Фашизмом.
Легко составить слова из первых букв строчек моего “поэтического” труда. Я уже тогда был такого мнения о Сталине Иосифе, но признаюсь, что ни с кем не делился этим мнением.
К весне 1940 года мои силы истощились не только под тяжестью непосильной работы, но и из-за скудной пищи. Результаты работ учитывались бригадиром и лагерным начальством таким образом, что я не каждодневно получал полную пайку хлеба. Даже при полной, 600-граммовой пайке хлеба и при лагерной баланде, которая не была ни калорийна, ни вкусна, дистрофия была неизбежна. Для большинства арестованных главной причиной преждевременной смерти и была дистрофия. Каждый отталкивается от смерти по-своему. Я считал, что оттолкнусь от нее, если буду в бригаде, которая работала в забое, но поодаль от лагеря - километрах в пяти. Квартировала эта бригада там же в палатках. В эти “дачные” места меня тянули два обстоятельства. Во-первых,там не было такого каждодневного, я бы сказал, каждочасного глаза лагерного начальства, как в барачном лагере. Во-вторых - там обильнее кормили. Последнее объяснялось тем, что там меньше крали заправилы кухонь - “друзья народа”, так как вся бригада тамошняя состояла из таких “друзей”, а придурков было меньше. В лагере их было множество.
После неоднократных разговоров с бригадиром “дачников” Устиновым мое желание осуществилось. Устинов согласовал свое согласие взять меня в свою бригаду с начальством лагеря, и я туда отправился в сопровождении бригадира. По дороге он мне рассказал, что был арестован по обвинению его по ст.58 п.10, но в лагере был вторично судим и осужден как бытовик, что вполне его устроило, так как он перестал числиться ”контриком”. Такая “перековка” позволила ему стать бригадиром, да еще такой бригады. Он поведал мне, что у него в бригаде уже имеется один “контрик”, с которым я буду работать в паре по подборке песков в забое. Эта работа не очень тяжелая, но делать такую подборку надо очень тщательно. Кроме того, он потребовал от меня, чтобы я помог ему вести учетную работу. Я согласился, хотя сверх работы в забое мне доводилось трудиться еще часа два. В таком “благоприятном” месте работы я находился с апреля по август 1940 г. В августе на Колыме уже начинаются заморозки, в особенности по ночам. Предусмотрительный Устинов, опасаясь, что эти морозы помешают своевременно иметь достаточное количество воды для движка, возложил на меня еще одну обязанность - до начала работы наполнять водой бочки, стоявшие возле движка. Я согласился и на это, хотя эта работа была очень тяжелая. Надо было из водоема, с утра замерзшего, ведрами перетаскать воду для заполнения бочек. Кроме того, что расстояние до водоема было порядка полукилометра, его расположение было ниже уровня земли. Я выбивался из сил до предела, и, главное, у меня не было уверенности, что сумею обеспечить доставку нужного количества воды к началу работы бригады (лед крепчал, а я все слабел). Простои работы в разгаре промывки в данном случае послужили бы основанием обвинить меня, “контрика”. Это могло бы кончиться очень плохо, вплоть до приписания мне статьи 58, п.14 УК, т.е. саботажа, что влекло наказание вплоть до смертной казни. Я пожертвовал своим “благополучием” и категорически отказался от выполнения этой, дополнительной работы. У Устинова, видимо, оставалась капля совести. Он отпустил меня в лагерь подобру-поздорову, не сказав начальству лагеря, что я отказался от работы.
По возвращении в лагерь начальство зачислило меня в бригаду по трелевке леса. Итак, на Колыме мне довелось выполнять еще один вид дополнительной работы. Производились эти работы не машиной, а плечами и ногами арестантов (технология была проста). У места валки (спиливания) деревьев на плечи двух арестантов-трелевщиков кладут спиленное дерево размером не менее 3-х метров длины, которое складывается вдали от распиловки на расстоянии порядка километра (более точно расстояние не помню). В этой работе не было никакой премудрости, но о тяжести ее можно судить хотя бы по тому сообщению, что такая работа выполняется слонами (см. газету “Правда” от 29 августа 1971 г.). (Надо же, чтобы так случилось, что в день, когда я пишу эти строки, мне на глаза попалось это сообщение.) Я и мой напарник, Сергей Михайлович Ардатов, после 12-часового труда слонов имели вид выжатых лимонов, в бараке сразу заваливались на нары, где мы лежали рядом.О вечерней баланде мы начинали подумывать, когда хоть сколько-нибудь отдохнем.
Товарищу Ардатову я хочу уделить хоть несколько строк, хотя по-моему о нем можно и целый том написать. Он был рабочим на Орехово-Зуевской текстильной фабрике. В 1917 году он там вступил в ряды большевиков. После Гражданской войны, в которой участвовал и в качестве рядового красноармейца, и в качестве политработника, он вернулся в Орехово-Зуево. Проработав некоторое время на той же фабрике, он затем поступил на рабфак. В конце 20-х годов по окончании рабфака был назначен директором Тушинской текстильной фабрики, а затем директором текстильного комбината. Когда ему минуло 42 года - в 1937 г., - его обвинили в контрреволюционной деятельности и “осудили” на 10 лет исправительно-трудовых работ. Это было решение не суда, а Особого Совещания, которое тогда свирепствовало. Все, что я написал в этих нескольких строчках, рассказал мне сам С.М.Ардатов, с которым я крепко подружился на Сентябрьском каторжном пункте. В 1969 году мне представился случай познакомиться с одним из товарищей С.М.Ардатова, который с ним работал в текстильной промышленности Московской области, - Ветровым Алексеем Егоровичем. Тов.Ветров сказал, что Ардатов С.М. был на отличном счету и в тресте, который объединял их фабрики (тов.Ветров был директором чулочной фабрики), и у рабочих и работниц. Еще в конце 20-х или начале 30-х годов Ардатов построил для детей работниц и ра-бочих детский сад, ясли и другие удобства. Высказывая с теплотой свои воспоминания о совместной работе с Ардатовым, тов.Ветров Алексей Егорович закончил свою характеристику т.Ардатова словами: “Огонь бодрости и большевистской энергии никогда не угасал у Сергея Михайловича”. Наше знакомство с тов.Ветровым произошло в больничной обстановке (больница №33 г.Москвы). Он мне дал адрес, где жил тов.Ардатов, - Москва, Октябрьская ул., №49. По выходе из больницы я пошел по этому адресу, но о родных Сергея Михайловича ничего там не узнал - никого из них там не было.
Сентябрь был уже на исходе. Невзгоды для арестантов в эту пору года дополнялись невзгодами из-за погоды. Ведь абсолютное большинство их работало под открытым небом, и в осеннее время подчас хуже, чем в зимнее. Зимой можно хоть немного согреться в бараке у железной бочки, стоящей в качестве печки; осенью такой еще нет, и просушиться после осенних дождей и снега негде. В это время среди нас было особенно много больных, но от работы “лекпом” не освобождал из-за отсутствия повышенной температуры. Ему было невдомек, что температура была, как правило, пониженная как раз из-за слабости.
В это время совершенно неожиданно начали поговаривать о какой-то предстоящей отправке из лагеря. Говорили,что желающих отправиться в этап будут записывать по заявлениям заключенных. Я решил подать такое заявление, ибо чувствовал, что пропаду на Сентябрьском, где уже находился почти год. Я стал уговаривать также и тов.Ардатова подать такое заявление, но он отказался, мотивируя тем, что этапа не выдержит. К этому времени он совсем заболел. В стационаре для него не нашлось места, и поэтому он лежал в бараке в ожидании такового. Напарником у меня стал мой бывший напарник по подборке песков в бригаде Устинова . По своей комплекции это был очень крупный человек, но трелевка леса ему тоже была очень тяжела.После каждого рейса с пятиметровкой или трехметровкой он дышал как паровоз. Он еще в Тифлисе (Тбилиси) болел астмой. Там он был каким-то ответственным работником грузинской местной промышленности. Запомнил еще одну деталь его личности. У него были такие огромные ноги, что для них было трудно подобрать обувь, и поэтому на нем и летом голенище валенка превращалось в обувь на ступни ног. В общем этот грузин по национальности был очень не рад, что имел такого соплеменника как Сталин. Не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба. В этап со мной он тоже не пожелал отправиться. С его астмой, ему, пожалуй, было бы еще тяжелее, чем тов.Ардатову. Фамилии тов.грузина я не запомнил. Оба они остались на Сентябрьском, а я пошел в этап. В данном случае надо подчеркнуть слово “пошел”, потому что обыкновенно на Колыме в этап отправляли на грузовиках.
Этап без грузовика (нас было всего человек тридцать) вызвал у арестантов предположение,что путь предстоит не очень дальний. Он оказался бы таким, не случись того, что старшина (или начальник) конвоя не мог предусмотреть, а именно, что в том году в октябре месяце лед еще не накрепко сковал близлежащее озеро, по которому собирались повести нас. Этот путь исключал движение через колымские сопки. На деле получилось, что, как только весь этап ступил на лед, сразу же образовалась крупная трещина, и спустя какие-то минуты люди начали тонуть в ледяной воде. Надо отдать справедливость начальнику конвоя: он быстро нашелся, скомандовал немедленно вернуться на берег. Вернулись на берег не все этапники. Трое утонули, и никакие ухищрения конвоиров при помощи собак-ищеек не помогли вытащить утонувших.
Трудно описать наше состояние, в том числе и конвоиров, но делать было нечего, и нас погнали дальше, другим путем. Мы шли, подгоняемые не только конвоем, но и случившимся кошмаром. Ускоренное движение согрело нас, но одновременно и сильно утомило, утомило до такой степени, что мы уже не шли. а ползли на четвереньках. При этом способе передвижения я оказался в хвосте этапа и совсем отстал, ползя на солидном расстоянии от всей колонны. Собака, верная помощница конвоя, не “стерпела” такого нарушения с моей стороны и вцепилась в рукав моего бушлата (собака натренирована для предупреждения побега). Я очутился не только во власти произвола Сталина-Берия, но и в сильной пасти четырехногого стража. Конвоиру не оставалось ничего другого, как отрезать часть рукава и оставить ее в зубах собаки. Может быть, такой факт был бы годен для кинофильма, но для меня же он останется в памяти до последнего дня моей жизни как кошмар наяву.
Все, что случилось в этом этапе, настолько утомило и нас, и, должно быть, конвоиров, что возникла необходимость предпринять какие-то меры для облегчения движения и убыстрить прибытие на место назначения. Это понял и начальник конвоя. Он связался с пунктом,куда мы следовали, и вскоре появились трое саней с шестью лошадьми,и мы помчались на розвальнях. Когда в сумерках мы въехали в ограду третьего для меня колымского лагеря и разместились в бараке, то узнали, что находимся на “пункте” под названием Геологический. От новых соседей по бараку мы узнали, что этот пункт находится в 25 километрах от трижды проклятого пункта Сентябрьский. В итоге получилось. что двадцать пять километров преодолели за 7-8 часов и потеряли трех человек. Этой потерей дело не ограничилось. На второй день заболели воспалением легких пять человек из этого этапа.
Глава 20
На Геологическом тогда не было не то что больницы, но и стационара-то не было. Весь медицинский персонал состоял из одного человека в лице заключенного Андрея Михайловича Жегина, врача-хирурга. Тов.Жегин был не в силах сделать что-нибудь радикальное для этих тяжело заболевших людей. Начальство этого заброшенного пункта, на котором ранее добывалось золото, тоже ничего не могло сделать, а может, и не хотело позаботиться о з/к, в которых по существу не нуждалось. В итоге и эти пять человек погибли через какую-то неделю, а нас, их соэтапников и соседей по нарам,использовали для того, чтобы копать могилу нашим товарищам.
Хоть я пробыл на Геологическом всего каких-нибудь 2-3 недели, но столько кошмарного нагляделся, как будто жил там много месяцев. Особо грустное воспоминание (помимо этих человеческих смертей) осталось у меня от того “сюрприза”,который был преподнесен нам 7-го ноября,в день двадцатитрехлетия Октябрьской революциии.После утренней поверки в бараке нам приказали построиться по пять человек в ограде лагеря. Ходящих оказалось человек 15-18. Их тут же окружил конвой,в сопровождении которого нас вывели за ограду. Спустя не менее часа (вероятно, уже было часов 9 утра) мы добрались до места, где нас остановили. Старший конвоя указал, где лежат лопаты, которыми мы должны убрать снег на довольно большой площади. Оказалось, что эта очистка снега понадобилась для того, чтобы бить шурфы, т.е.такие четырехгранные ямы, откуда геологи берут пробы на золотоносность данной площади, хотя Геологический уже давно был заброшен как золотоносный пункт.
Итак, вместо праздника, мы в самый праздник стали работать, хоть и не на тяжелой работе, но все же на каторжной. Даже рабовладельцы в праздник Рождества не заставляли работать своих рабов, а владельцы з/к в день Октябрьской революции заставили. Должно быть,силы небесные возмутились этим кощунством и обрушили на землю такую пургу, которая вынудила всех нас искать укрытие от нее в самом снегу. Лопаты нам крепко помогли. Больше того, сами конвоиры были заинтересованы, чтобы были сделаны такие укрытия-убежища, ибо из-за пурги ни зги не видно было на расстоянии каких-нибудь пяти метров, а вокруг не было никаких строений, куда бы конвой мог нас загнать, чтобы быть уверенным в том, что никто из подопечных не исчезнет в этой мгле. В этих снежных траншеях мы просидели до тех пор, пока конвой не решил отвести нас в лагерь, это нужно было успеть до сумерек. Гнусный замысел начальства Геологического, выразившийся в том, чтобы заставить “контриков” работать в такой день - день Октябрьской революции, - провалился с треском, но никогда не исчезнет из моей памяти это мрачное воспоминание об подлом замысле бериевцев с Геологического. Мне довелось кое-что читать в нашей периодической печати об этом пункте на Колыме (газета “Известия” от 25 декабря 1963 г.). Специальный корреспондент этой газеты тов.Буланов Вл.Антонович, видимо, не знал, как мрачно протекала там жизнь, хотя он мельком упоминает, что там были заключенные. Может быть, тот, кого он назвал в своей боль-шой статье, а именно Аверьянов Филипп Игнатьевич, и был среди нас, “контриков”, в этих снежных укрытиях в день 23-й годовщины Великого Октября. Не исключаю, что этот Аверьянов, как рабочий человек (кузнец по профессии), в Октябрь-ские дни 1917 г. был красногвардейцем, как многие из тех, кои оказались на Колыме арестантами. Жаль, что тов.Буланов не коснулся того факта, что “трасса большого золота” (так называется его статья) была густо заполнена красноармей-цами-большевиками со времен юбилея Октябрьской революции и еще до него в качестве заключенных. К середине ноября больных из “моего” этапа стало много. В их числе оказался и я. Начальство Геологического решило прекратить держать нас в бараке и кормить, так как тогда не было никакого лечения, и поэтому нас погрузили на трехтонку и отправили в больничный стационар, обслуживавший ряд близлежащих приисков. На этот раз, помимо конвоя, нас сопровож-дал единственный медработник (з/к) этого пункта Андрей Михайлович Жегин. Хотя он был хирургом, но выполнял роль санитара.
Как всегда,мы не знали,куда именно нас везут. Каково же было мое удивление в момент приезда к новому месту назначения, когда я увидел знакомую местность - прииск Борискино, с которого меня внезапно этапировали более чем за год до этого момента. “Процедура” приема з/к, з/к новым лагерным начальством похожа на процедуру приема товаров, привезенных на склад. Разница лишь в том, что з/к, з/к откликаются, когда новый начальник (чаще его уполномоченный) зачитывает фамилию новоприбывшего з/к. При этом з/к обязан назвать свое имя и отчество и ответить на вопрос: какая статья? О таком ответе где-то еще упомяну (этапов будет еще много). Все прибывшие тогда из Геологического в Борискино оказались дистрофиками в сильной форме, и поэтому нас сразу же положили в стационар на постельный режим. Такое решение было утверждено начальником лагеря не без гуманного вмешательства заведующего санитарной частью М.А.Кушнарева, о котором я писал, когда прииск Борискино был для меня первым каторжным пунктом на Колыме. После Сентябрьского, злосчастного этапа до Геологического и краткого пребывания в нем здесь, в стационаре, нам казалось, что попали в рай. Такое благоприятное положение следует объяснить и тем, что нас хорошо кормили. В нашем рационе даже было настоящее сливочное масло, вид и вкус которого многие из нас позабыли. Нечего говорить, что М.А.Кушнарев обеспечил такой порядок, при котором все продукты, отпускаемые для больных, полностью им выдавали. Это приводило к тому, что лежавшие больные поправлялись довольно быстро. Лагерное начальство торопило медицинский персонал, чтобы з/к не залеживались в стационаре. Даже такие прекрасные люди, как тов.Кушнарев, не могли ничего сделать, чтобы полностью восстановить силы и здоровье. Как только больные з/к,з/к становились на ноги, их направляли в общие бараки, а староста лагеря уже “заботился”, чтобы сразу же пополнить ими бригады для всякого рода работ. Никого не манила такая перспектива, но применялась она к каждому поправившемуся. Я оказался первым поправившимся из одновременно прибывших со мною в стационар и поэтому должен был отправиться в распоряжение старосты. Надо было так случиться,что в это время заболел, что называется, штатный санитар санчасти лагеря Николай Николаевич Николаев. Он был положен для излечения, а меня Михаил Андреевич назначил временным санитаром. Нечего говорить, это была большая любезность, проявленная ко мне.
Тов.Кушнарев рассказывал мне, что ему пришлось немало хлопотать перед лагерным начальством, чтобы оно согласилось с назначением меня даже санитаром. Главным мотивом он выставлял то, что это временно, ибо, как только старик Николаев поправится, он опять займет это “привилегированное” положение санитара. Итак, на путях-дорогах своих я оказался санитаром. Как и моему другу-земляку Н.Н.Николаеву (он был из Минской губернии), мне приходилось не только убирать помещение стационара, подавать пищу больным, но и заготовлять дрова для отопления как стационара, так и медпункта, который помещался в другом домике. Такая работа была нелегка. Таская длинные деревья для топлива, я приспосабливал их ветви к себе на шею, и получалось как хомут на лошади. Такое мое лошадиное положение меня больше устраивало, чем работа, на которую бы послал староста-”друг народа”. Кроме того, я имел возможность почти каждый вечер хоть час или два провести в беседах с моим прекрасным человеком М.А.Кушнаревым, память о котором у меня останется навсегда.
Второе пребывание на прииске Борискино полно большим количеством печальных фактов, свидетелем которых я был. Приведу лишь “пару-тройку из таковых фактов”. (Взятое в кавычки выражение часто употреблял Антон Михайлович Цихон, с которым мне довелось работать в ЦК железнодорожников. Это тот самый Цихон, подпись которого значится на партийном билете В.И.Ленина. Антон Михайлович посмертно реабилитирован.) При каких обстоятельствах был умертвлен человек, подписавший партбилет Ленина, я не знаю, но как умирали большевики от предательских действий сталинцев, я видел как санитар на каторжном прииске Борискино. Среди больных в стационаре лежал бывший политический комиссар Балтийского флота тов.Фельдман (если моя память правильно сохранила фамилию; может быть, фамилия была Фишман или Фридман; я не ставил перед собой задачу точно установить фамилию этого балтийца). Мне известно из рассказа этого товарища, что флотским работником он стал в 1921 г. после Х съезда ВКП(б), делегатом которого был и участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. За какую-то клевету на него он был отправлен на Колыму в 1937 г. и, как многие, “до-шел” до дистрофика. Никакие меры для его выздоровления не спасли его от смерти. Я присутствовал, как санитар, при сборе его вещей и видел, что в одном кармане бушлата было обнаружено фото, на котором он был снят в военной форме с четырьмя ромбами. Такие знаки различия носили самые высшие военачальники Красной Армии, и вот он, один из них, так погиб, а труп его “водворен” в безымянную могилу на Колыме. В такую же могилу был отправлен в те же дни тов.Погосян. Этот большевик был председателем Центрального Комитета какого-то профессионального Союза в Армении. На Колыму он попал одновременно со мной, в середине 1939 г. В стационар его привезли прямо из забоя, где он упал из-за потери сил от очень изнурительной работы по гонке тачки. Тов.Погосян чаще сидел на своей койке, чем лежал. Никто не знал причины такого “бодрствования”. Оказалось, что все его тело было в пролежнях, и потому ему трудно было лежать. Это нам стало известно после смерти т.Погосяна. Его смерть наступила настолько необычно по сравнению с другими, которые я видел почти каждый день в стационаре, что запомнилась мне со всеми подробностями. Был вечерний час, всем был роздан ужин на койки. Тов.Погосян полностью съел свой ужин и, против своего обыкновения, не продолжал сидеть, а лег спокойно и даже не вздохнул. Не прошло после этого и 20 минут, как я, собирая посуду, заметил, что тов.Погосян лежит не совсем укрытый, и тут же увидел, что у него изо рта виднеется пена. М.А.Кушнарев был в это время в стационаре и, подойдя на мой зов к койке, констатировал смерть. Так закончилась жизнь еще одного советского человека.
Если смерть, хотя и преждевременная, настигает человека на войне, при эпидемии или вследствие какого-либо несчастного случая, то это совершенно другое, а здесь речь идет о смертях, которые были результатом тирании и изме-ны. Люди, умершие и погибшие в тюрьмах и лагерях во время сталинского периода, стали для меня ближе, чем родные братья. Как разбушевавшийся ураган вырывает с корнем вековые деревья, так этот смерч, т.е. культ личности Сталина, вырывал из рядов большевистской партии ее верных сынов. По-моему, тут уместно привести слова В.И.Ленина: “В личном смысле разница между предателем по слабости и предателем по умыслу и расчету очень велика; в политическом отношении этой разницы нет, ибо политика - это фактическая судьба миллионов людей, а эта судьба не меняется от того, преданы миллионы рабочих и бедных крестьян предателем по слабости или предателем по корысти” (В.И.Ленин. Заметки публициста.1920 г.). Здесь уместно напомнить и такие слова В.И.Ленина, что предательство наступает всегда внезапно. Хорошо бы эту прекрасную мысль Ленина приводить, когда доказывают, какой огромный вред был причинен советскому народу культом личности Сталина. Если до сих пор все же находятся люди, стремящиеся к восстановлению сталинских порядков, то это лишь до-казывает, что не все сталинцы разоблачены и осуждены, что уж очень снисходительно обходятся с теми, которые позво-ляют себе даже восхваление Сталина как великого полководца и прозорливого начальника. Где-то мне довелось читать, что добро должно быть очень сильным, иначе пакость может задавить это добро. Как раз пакость толкнула тех, кто пожелал и добился того, чтобы установить бюст Сталина на место, куда был выброшен его труп из ленинского мавзолея. Только заядлые сталинисты были недовольны этим правильным решением ХХII съезда КПСС. Надо полагать, что только из-за их сопротивления до сих пор не установлен памятник погибшим в Норильских, Тайшетских, Колымских и других лагерях, хотя такой памятник должен был быть установлен по деланию этого же Съезда КПСС.
Продолжу о моем житье-бытье на каторжном пункте Борискино. Как только упомянутый мною Н.Н.Николаев выздоровел, меня отправили в общие бараки, а оттуда для меня было уготовлено лишь одно место - работа в забое. Почти за два года до этого я на том же прииске получил познания забойщика, и теперь мне уже не нужно было учиться искусству работать кайлом или катать по трапам тачку. Отказаться от этой работы означало обречь себя на голодную или даже позорную смерть. Были среди заключенных такие, которые превращались в попрошаек, ибо получая, как отказчики, 200-300 граммов хлеба, они обращались к тем, кто были придурками в лагере, т.е. главным образом к бытовикам, имевшим откуда-то вдоволь еды. Мне довелось видеть, как один опустившийся арестант из интеллигентов танцевал и паясничал перед главарем бандитской шпаны, а этот последний подбрасывал танцору кусочки хлеба. Говорили, что тот, кто танцевал, был до ареста балетмейстером в Новосибирске. Много смешного было в этом зрелище, но еще больше грустного. Это грустное воспоминание привожу как бы между прочим, а воспоминание о замерзшем человеке опишу подробно.
Однажды, когда я работал в ночную смену, бригадир позвал меня и повел в другой забой. В этом забое, притулившись к стенке, лежал человек. Бригадир стал его тормошить, но поднять не мог. Даже громкая ругань по поводу того, что мало сделано, не вызвала какого-либо реагирования со стороны лежащего. Нет сомнений, что человек, работающий на холоде, может сделать больше, если знает, что после работы будет в человеческих условиях. Арестантов на Колыме такие условия не ждали, и поэтому низкая производительность, а в данном случае - замерзание человека. Бригадиру пришлось снять с работы еще двоих, и мы четверо отнесли замерзавшего в лагерь на медпункт. Было это в полночь. Для оказания помощи прибежал М.А.Кушнарев. Он предпринял все необходимые в таких случаях меры, в том числе растирание спиртом и вливание спирта, но замерзавший так и не пришел в сознание. Я запомнил слова его бормотания. Вот они: “Я без шапки, и ты без шапки, где мои рукавицы, где моя лопата?” Последние слова были нецензурными, хотя среди них были такие слова, как “бог” и “мать”...Кого он имел в виду под словом “его”, легко было догадаться, так как он бормотал, что “усач” отправил его в каторгу. Пусть не сам “усач” отправил его на тот свет, но это сделали опричники “усатого”. (Среди арестантов Сталин получил прозвище “усач”.)
Конечно, смерти от замерзания даже при морозе порядка 40° можно было избегнуть, но для этого надо было иметь силы, что называется - шевелиться на работе. У этого человека, должно быть, уже не было этих сил. Ему было 52 года, и все же его держали в забое. Фамилия этой жертвы была Злыгостьев,и,хотя он был уроженцем Иркутской области и горным техником, он не выдержал тяготы колымской неволи. Для меня эта неволя продолжалась еще очень долго.
С Борискино я попал на новый прииск - Встречный. На этот раз (а не как в 1939 г.) я имел возможность перед этапом попрощаться с моим другом М.А.Кушнаревым, а также с Н.Н.Николаевым, с которым тоже подружился, как с земляком из Минской губернии. Из разговоров с ним я узнал, что он был председателем одного из колхозов под Минском и что ЦК партии Белоруссии считал его одним из лучших председателей. Это дало ему возможность быть знакомым с секретарем этого ЦК тов.Шарантовичем. Я ему, в свою очередь, рассказал, что с В.И.Шарантовичем работал вместе в Краевом Совете профессиональных союзов в Новосибирске в 1926-1927 гг. Попрощавшись, мы взгрустнули и добрым словом вспомнили т.Шарантовича, расстрелянного сталинскими палачами. К слову будет здесь сказано: в 1971 году мне случилось познакомиться с вдовой Шарантовича; она мне сказала, что он посмертно реабилитирован и посмертно восстановлен в члены КПСС. Каторжный пункт прииск Встречный, на котором я пробыл около полутора лет, остался в моей памяти по многим причинам. Главная из них - начавшаяся война гитлеровской Германии с Советским Союзом.
Глава 21
У меня нет необходимости предупредить тех, коим когда-нибудь доведется читать эти строки, о том, что не собирался сделать анализ или разбор обстоятельств, которые привели к этой войне. Об этом уже написано и еще должно быть написано знающими людьми. Я не могу себя причислить к ним. Если я, однако, упоминаю об этом крупнейшем событии того времени, когда был арестантом, то лишь потому, что отдельные эпизоды, связанные с войной, мне запомнились. Вот один из эпизодов, который произошел за несколько дней до 22 июня 1941 г.
Во время “перекура” мне попался кусочек газетной бумаги (такая бумага считалась са-мой лучшей для курения махорки), на котором было напечатано сообщение ТАСС. Я прочел это сообщение прежде чем закурить и дал прочитать моим товарищам. Мы из этого сообщения узнали, что ТАСС уполномочен заявить о лживости английской версии, согласно которой в Финляндии на границе с СССР концентрируются немецкие войска. По этому же сообщению ТАССа, эти войска “отдыхают последних победных походов в Греции”.
Нужно ли теперь комментировать это, мягко выражаясь, необъективное сообщение тогдашнего ТАССа? Думаю, что такой необходимости нет. Оно вызвало у нас усиленное внимание к происходящим событиям, но ничего определенного и правдоподобного мы не могли узнать. Это и не удивительно. Ведь не только мы, заключенные, но и находящиеся на воле пичкались такими сообщениями в ту пору сталинской узурпации.
Если мы, заключенные, узнали об этой войне не 22 июня, то через 3-5 дней и до нас дошла эта печальная весть. Многие арестанты начали подавать заявления-просьбы об отправке их на фронт для борьбы с немецкими фашистами. От “контриков” такие заявления-просьбы не принимались даже для рассмотрения. Лишь бытовикам и многим бандитам была предоставлена возможность воевать с гитлеровцами. Несмотря на значительное ухудшение условий жизни арестантов в связи с войной (рабочий день удлинился с 12 до 14 часов, строже стали следить за каждым шагом з/к), все же многие из нас старались интенсивнее трудиться, дабы этим как-то способствовать победе над фашистами. Помню, как однажды в ночную смену в забой, где я работал, пришел человек в полковничьей форме. Он внимательно смотрел, как трое стариков интенсивно гонят свои тачки с золотоносным песком к бункеру. Подойдя к нам (я был в числе этих трех), он спросил у каждого из нас фамилию и возраст и счел даже нужным предложить нам закурить его папиросы. Наш звеньевой Цветков объявил перекур, во время которого человек в военной форме назвал себя уполномоченным УСВИТЛа. Он сказал, что доложит в политотделе этого управления, что он видел, как трое “старичков”, осужденных по 58-й статье УК, гнали свои тачки с золотоносным песком. Я счел нужным сказать этому полковнику, что, во-первых, нас троих не судили, а “порешили постановлением Особого Совещания”, а во-вторых никакой статьи УК за нами нет и вообще мы осуждены “без статьи и некстати”. Наш звеньевой Вася Цветков одернул меня за такую вольность в разговоре с начальством, но полковник улыбнулся моему замечанию о “некстати” и, попрощавшись,дал нам еще по второй папиросе. Мы не стали тут же опять курить, а принялись скорее наполнять тачки, чтобы опять погнать их по трапам к бункеру.
Ухудшение положения арестантов проявлялось абсолютно во всем, начиная от количества и качества пищи, увеличения количества часов работы в забое, а кроме этого - частых “субботников и воскресников”. Хотя в эти дни арестанты не имели отдыха, но так назывались многочасовые работы в эти дни сверх обычных часов. Такие работы выполнялись не в забоях, а в лесу. Не забуду, как на одном из таких субботников мне на плечо было положено бревно в три метра длины и 20 сантиметров толщины. Под тяжестью этой ноши я свалился, не донеся ее до лагеря. Делать было нечего, сам я поднять ее не мог и решил пойти на вахту, чтобы отказаться от продолжения непосильной работы. Начальник УРЧа не наказал меня, но распорядился не выдавать мне заработанной в тот день премии в размере 200 граммов хлеба дополнительно к моей основной 600-граммовой пайке. Он не ограничился этой карой и еще лишил меня права на получение денежной оплаты за этот месяц. Об этой денежной оплате стоит сказать хоть пару слов. Как правило, такие арестованные, как я, т.е. так называемые “контрики”, ни разу не удостаивались начисления какой-либо денежной оплаты за работу в забое (чего нельзя сказать об арестантах-бытовиках). На этот раз бухгалтерия прииска начислила за мою работу в забое ни мало ни много - целых 99 копеек... Это выглядит анекдотично, но. увы, это факт, и такой, который обнаруживает, какое практиковалось издевательство.
На нашу интенсивную работу, что называется, работу на пределе своих сил, начальство отвечало нам издевательством. Совсем иначе относилось начальство к “друзьям народа”. Из этих людей комплектовали бригады, во главе которых ставили самых отъявленных бандитов. Запомнился мне один, по имени Гершка. Будучи карликового роста,он вместе с тем был самым мерзким, когда дело касалось издевательства над нашими товарищами. Ему доставляло удовольствие, разложив куски сахара на столе барака, подзывать к себе “контриков” и спрашивать у них, чего они больше хотят: найти в забое кусочек золота или вот такие куски сахара. Его бригада снабжалась сахаром регулярно и вдоволь, а нам сахар попадал не чаще, чем заметные куски золота. Этот же карлик из издевательских соображений подсовывал “паханам” остатки макарон, которыми кормили его бригаду, названную “гвардейской”. Кое-кто из “паханов” принимал эту подачку, за что они платил “гвардейцам” своими “романами”, т.е. рассказами о том, что когда-либо читал в книгах, или просто выдуманными историями. Пусть кто-то, прочтя однажды эти строки, скажет, что здесь излагаются мелкие факты. Люди, которые сумеют по достоинству оценить эти “мелкие” факты, поймут весь ужас происходившего.
В конце 1941 года, т.е. спустя несколько месяцев после начала войны, в лагере произошло событие, ошеломившее многих из нас. Необычно было то, что сам начальник лагеря явился в барак с пачкой газет в руках и тут же приказал дневальному назначить чтеца. Сразу вызвалось много добровольцев для чтения. Все они были забракованы начальником по той причине, что были из состава “врагов народа”. Среди других арестантов не было добровольцев. Дневальный остановил свой выбор на отъявленном воре. Одна из его многочисленных фамилий была Москвин. Этот парень лет 30-ти с неохотой взялся за чтение, но читал хорошо. Наше усиленное внимание к тому, что читалось, вполне объяснимо: ведь это было наше первое знакомство с газетным материалом о ходе войны. Казалось (по крайней мере, я так считал), что мы не устанем слушать чтеца, даже если он будет читать хоть два часа. Но, стоило начальнику, отдав газеты дневальному, уйти из барака, как Москвин перестал читать. Все наши уговоры не подействовали на него, и в ответ он нам заявил: “Вы политики, вы и читайте, меня не интересует вся эта мура, я должен быть в другом бараке для своего дела”. Это значило играть в карты или что-нибудь придумывать - как обворовать столовую или хлеборезку. И ушел. Наши обращения к дневальному с просьбой дать нам кому-нибудь читать тоже ни к чему не привели.Дневальный разоткровенничался и сказал, что начальник лагеря категорически запретил давать “контрикам” читать газеты. Делать было нечего, и мы начали укладываться спать. “Бытовики”, как правило, перед сном затягивали, хотя и не особенно громко, песню “Не для меня Христос воскрес и не улыбнутся девы с черными бровями”. Со мной рядом на нарах соседствовал человек, который, в отличие от большинства, имел регулярную переписку со своими, жившими в Ростове н/Д. Уже лежа, он сказал мне на ухо, что обязательно постарается сообщить в письмах к своим родным о факте такого недоверия к заключенным по 58-й статье, по которой и он был арестован.
Об этом ростовчанине (его фамилия была Носов) хочу сказать несколько слов. Он это заслуживает по двум причинам. Первая - как я уже отметил, он имел регулярную переписку со своими родными. Среди моих знакомых это было редкостным явлением. Вторая - Носов был арестован за то, что у него была книга Джона Рида “10 дней, которые потрясли мир”. Об этом “преступлении” кто-то из его знакомых сообщил органам ГПУ. Сотрудники ведомства Берия в Ростове, произведя обыск у Носова, действительно обнаружили эту книгу. Это послужило основанием для ареста студента Носова и осуждения его на 10 лет колымских лагерей. Об этом мне рассказывал не успевший закончить свою студенческую пору ростовчанин Носов. В свете этого рассказа хочу здесь изложить доподлинно известный мне факт, имевший место в Одессе в те же годы сталинских репрессий над советскими людьми. Об этом факте я узнал в 1962-65 гг от одного моего знакомого - члена КПСС, преподававшего историю. У него нашли книгу “Майн Кампф” Гитлера. Этой книгой он пользовался как материалом для показа всей реакционности “мыслей” Гитлера. Моего знакомого арестовали и приговорили к двум годам заключения. Должно быть, судьи того времени более благосклонно относились к фашистской пакости Гитлера, чем к революционной книге Джона Рида, которая получила такую высокую оценку у В.И.Ленина и у Н.К.Крупской. У меня получилось большое отступление от факта чтения газеты в бараке в 1941 г. Но без этого никак не мог обойтись. Мне кажется, что этим отступлением я продемонстрировал “химию фактов”, о которой писал М.Горький. Чтение газетного материала проводилось еще раза два. Из этой информации мы узнали, что попытка гитлеровцев занять Москву провалилась и что советские войска перешли в контрнаступление, но положение на фронтах все еще тяжелое. Наши охи и вздохи по этому поводу, конечно, не смогли помочь, а активно участвовать в войне нам не разрешали.
Жизнь в лагере текла однообразно: рано утром развод на работу, поздно вечером возвращение в лагерь на ночлег. И то и другое под конвоем, а вокруг лагеря на вышках - недремлющий конвой. Весна 1942 года для тех мест Колымы, где мне довелось быть, принесла невиданное до тех пор наводнение. Колымская земля принимала огромные потоки ливней. Работать на прииске стало невозможно, но арестантам нашли работу, и не менее изнурительную, чем в забоях. Меня в составе еще пяти заключенных отправили приводить в порядок домик, в котором жил начальник прииска со своей семьей. Наводнение превратило этот домик в развалину. Большую сноровку в работе по восстановлению домика проявил бригадир нашей пятерки Ангел Иванович Димитров (об этом человеке расскажу несколько позже). Мы все пятеро работали с утра допоздна. В данном случае не под надзором вооруженного конвоя, а под надзором хозяйки дома, жены начальника прииска. Ее удивлению не было границ, когда она узнала, что никто из нас никогда не был уголовником (лагерное начальство знало, кого отправляет на эту работу).
Кончилось наводнение, прииск освободился от воды, и опять началась работа в забое с помощью лопаты, кирки и тачки. Одинаковый ритм движения тачки по трапам в какой-то мере отвлекал голову от тяжелых дум, но полностью освободиться от них ни тогда, ни в дальнейшем не удалось. Все эти думы вращались вокруг главного: во что превратилась страна Советов при господстве Сталина. В нашу страну верили угнетенные из стран капитализма и всяческими способами стремились к ней. Названный выше Ангел Иванович Димитров был среди таких. Он был земляком однофамильца тов.Димитрова, который работал в Коминтерне. По словам Ангела Ивановича, его из Болгарии отправили в СССР для того,чтобы он стал подкованным марксистскими знаниями и вернулся в Болгарию к подпольной коммунистической деятельности, а в действительности его в 1937 году арестовали после недолговременного пребывания в Москве. Его не спасло то, что Георгий Димитров знал Ангела Ивановича как верного коммуниста Болгарии, и то, что Болгарская коммунистическая партия отправила его учиться в Москву. Вместо учебы, его заточили в колымские лагеря. Этот болгарский коммунист был по профессии медником, почти тоже металлистом, как и я. Ему, однако, его профессия помогала и в те дни, когда он находился на общих работах, т.е. в забое, - он мог подрабатывать тем, что умел лудить котлы. Деньги за эту работу от поваров лагерных кухонь он не получал, но еды получал вдоволь. Однажды тов.Димитров взбирался тихонько на нары после отбоя значительно дольше обычного. Его место было рядом со мной. На мой вопрос, почему он так долго работал, он не ответил, а взял мою руку и приложил к чему-то теплому - это оказался котелок с теплыми галушками - и тихо предложил приступить к еде невиданного блюда, какое он получил за то, что отлудил в этот вечер два котла. Наша ночная трапеза длилась недолго, но галушек в котелке мы не оставили, ибо под его изголовьем нередко шарили. Я тогда уснул необыкновенно сытым.На утренней поверке моего друга-болгарина Ангела Ивановича Димитрова вызвали из строя и повели на вахту. Мы попрощались, пожав руки. Мы успели пожелать друг другу удачи. Со своим акцентом он сказал, что никогда не забудет тот случай, когда начальник лагеря запретил нам, “контрикам”, читать принесенные газеты, а поручил это делать ворам (я это тоже никогда не забуду).
Глава 22
Встречный был для меня последним прииском. Здесь было еще очень много невзгод на моих путях-дорогах. Они разные по значимости, по характеру, но общее в них то, что основа была одна, а именно - ПРОИЗВОЛ. Этот произвол по существу поощрялся сверху и не получал отпора со стороны испытывавших невзгоды. Приведу пару примеров, сохранившихся в моей памяти.
Однажды что-то у меня не ладилось во время работы в забое и я запаздывал с гонкой моей тачки с золотоносным песком. Возле моего места работы оказался вольнонаемный десятник. По сути дела он должен был бы или мог бы указать мне, как устранить неполадки. Он же начал ругать меня нецензурными словами. Я не стерпел такой ругани и ответил ему довольно громким голосом, что он не имеет права так обращаться с заключенными. Он не ожидал даже такого, легкого отпора от з/к “контрика” и отреагировал так, что передал старшему конвоиру, чтобы в обеденный перерыв (это было в первой половине дня) меня не пускали в лагерь для еды, а держали на вахте. Я просидел на вахте все время перерыва, по окончании которого был отправлен вместе с бригадой в забой. Вечером того же дня, после того, как я похлебал баланду, выдаваемую на ужин, в барак явился староста лагеря и приказал мне отправиться с ним на вахту. Случайно в это время в бараке был начальник лагеря. Я позволил себе обратиться к нему, и когда он разрешил, я сказал ему, что меня вызывают, чтобы посадить в карцер по требованию десятника, и кратко изложил “основание” этого требования. Начальник выслушал меня и, несмотря на то, что сам же наложил резолюцию на рапорт десятника о посадке меня в карцер, приказал оставить меня в бараке. Такой факт в условиях колымских лагерей был редким явлением.
Вот еще один из примеров произвола. Однажды ночью, после тяжелой дневной работы в забое, нас всех подняли и приказали: “К вахте”. Спустя какие-то минуты мы у вахты застали арестантов из других бараков. Конвой, как всегда, повел нас в неизвестное нам место. Шли мы очень долго, пока не увидели впереди себя на большой территории горящий лес. Нетрудно было догадаться, что нас привели тушить лесной пожар. Рассказать о том, как конвоиры организовали работу по тушению разбушевавшегося пожара, я не сумею, ибо не знаю этого, но что царила бестолковщина - видно было уже по тому, что пожар не унимался. Работа по окапыванию мест, на которые огонь еще не перебрался, велась разрозненно. Даже лопатами не все мы были снабжены. Кроме того, по несогласованной инициативе отдельных командиров нас перегоняли с одного места на другое. Так длилось почти до утра, когда нас погнали обратно в лагерь. Мы только успели получить свою пайку хлеба и похлебать утреннюю баланду, как тут же должны были стать на поверку для отправки разводом на работу в забой. Можно представить себе, какая производительность была в забое после такой утомительной ночи. Даже в условиях арестантской жизни можно было надеяться, что после почти 36-часовой беспрерывной работы нам дадут возможность поспать хоть несколько часов, но не тут-то было. На следующую ночь опять подняли нашу бригаду. На этот раз мы не сомневались, что поведут тушить пожар, который продолжал бушевать. На этот раз несколько человек наиболее пожилых, в том числе и меня (мне уже было 46 лет) оставили в лагере, так как даже начальству по тушению пожара было понятно, что таким как нам, пожилым, это будет не под силу. Мы с вахты пошли к своим баракам.
Я только было улегся на свое место, как дневальный меня окликнул и сказал, что меня требуют на вахту. К своему удивлению, я увидел там еще двух из шести оставленных, и нас троих отправили в карцер. Мы совершенно не знали, по какой причине нас заперли в переполненном доотказа карцере. Никто из нас троих не был отказчиком, но “качать права”, как выражались в лагере, никому не рекомендовалось. Всю эту ночь нам пришлось в карцере не сидеть, а стоять. Завсегдатаи карцера обосновались так, как эти им было угодно, и так, что могли еще и в карты играть. Нам же, впервые очутившимся в такой обстановке, так и пришлось свечками простоять. Духота от тесноты и шум от ругани не давали ни на минуту вздремнуть. Кроме этих прелестей, частый “гость” карцера, упомянутый ранее чтец газет Москвин, изволил острить в адрес нас троих, “политиков”, так, как острят в безмятежной среде близких людей. Видимо, ярмо лагеря и карцера его нисколько не угнетало. Недаром в среде, к какой принадлежал Москвин, бытовала поговорка. что лагерь и тюрьма для них “дом родной”. Утром нас всех, проведших эту ночь в карцере, погнали одной штрафной бригадой на работу, выдав нам по 300 граммов хлеба, а бригадиром назначили Москвина. На отведенном для работы участке бригадир получил задание, но, не думая о выполнении, тут же ушел куда-то, а нам сказал, что каждый может делать что хочет. Никто из этой бригады не притронулся ни к лопате, ни к тачке, поговаривая: “Они нас не трогают, и мы их не тронем”. Такое необычное для нас, троих “контриков”, явление поставило нас в тупик, но белыми воронами мы не хотели быть и тоже не работали. Через какое-то время пришел начальник участка и, увидев, что работа и не начиналась, счел нужным пристыдить нашу тройку. Когда мы ему сказали, что не можем быть в штрафной бригаде иными, чем все остальные, он тут же распорядился отправить нас по своим бригадам, где мы и проработали все остальное время этого дня, а в карцер нас троих больше не сажали, тушить продолжавшийся пожар тоже не гоняли. Не для всех этот произвол завершился карцером. К сожалению, для одного моего собригадника этот произвол кончился смертью. Этот человек, по фамилии Токарев, сгорел на пожаре в ту ночь, когда я сидел в карцере. Подробностей этой трагедии я не знаю, но рассказывали, что, обессилев от работы днем и ночью, он упал у границы бушевавшего огня и был им охвачен настолько сильно, что его не удалось спасти. В моих воспоминаниях это не единственное грустное событие, но такое, которое тоже не могу забыть.
На Встречном я получил увечье. Оно оказалось таким, что уже не позволило, даже колымским сатрапам, использовать меня на работах в забое, где я работал начиная с 1939 г. по осень 1942 г., т.е. в течение 4-х промывочных сезонов.Увечье произошло потому, что катая тачку с золотоносным песком я упал с трапа, находившегося на высоте примерно в один этаж. Тачка с содержимым упала на меня и своим весом (вместе с грузом) основательно прижала к земле. Меня подняли и отнесли в санитарный пункт лагеря. Отсюда в тот же день (это было в первой половине сентября) меня отправили в больницу Усть-Таежной для операции. Мрачная картина в лагерных бараках сменилась для меня картиной, хотя и менее мрачной (стены в больнице побелены), но не менее грустной. На каждой койке лежит очень тяжело больной человек. Многие, как и я, ждут операции, другие уже перенесли таковую. Пустых коек не видать. Через койку от меня лежит человек с повязкой на глазах. С ним приключилась такая ужасная вещь, что я невольно запомнил: буквально за день до окончания 5-летнего срока он ослеп на оба глаза от взрыва в шахте, где находился. Ему сделали операцию, после которой уже прошло дней десять. Врач говорил, что зрение восстановится, хотя и не скоро. Больной (по фамилии Петров) на утешение врача реагировал заявлением, что,хотя без вины уже отбыл 5 лет, но готов еще пять лет пробыть в заключении, лишь бы сбылось предсказание врача.
Другой больной, со странным сочетанием имени и фамилии Иван Кармен1, обращал на себя внимание тем, что его кормили как младенца, из соски. Только так он мог принимать пищу, потому что у него все зубы были выбиты в результате несчастного случая: у мотора, при котором он работал, во время вращения оторвался болт и попал ему в подбородок. Подбородок был свернут, и все зубы выбиты. Иван не столько печалился о зубах (когда все заживет, протез сможет их заменить), сколько об обезображенном лице, которое раньше имело безупречные черты.
В тех условиях тяжелой работы отупение мозгов происходило прогрессирующими темпами. В больничных условиях, т.е. когда все мысли были заняты только желанием выздороветь, общее отупение не уменьшалось. Вдруг наши отупевшие мозги приковались к возникшему тогда слуху, что больных арестантов будут эвакуировать в больницу, расположенную в Усть-Утиной. Следует отметить, что почему-то употреблялось именно слово “эвакуировать”, а не “этапировать”. Должно быть, потому, что переезд в Усть-Утиную связывали с разговорами о том, что Япония начала активизироваться в войне в пользу Германии. Насколько все эти разговоры о причине эвакуации были верны, не знаю, но перевоз всех больных в Усть-Утинскую больницу состоялся.
Для меня эвакуация из Усть-Таежной в Усть-Утиную особенно запомнилась. Когда автомашина подъехала к вахте, старший вахтер вручил конвою (старшему), сопровождавшему нас, посылку для меня. Посылочный ящичек был вскрыт. К моему удивлению и радости, я узнал, что это прислала мне моя сестра. Это была первая и единственная весть о моих родных, как к тому времени, так и до конца заключения на Колыме. Все добро я перевез в больницу Усть-Утиной и там поделился с близкими моими соседями по койкам. Я об этом сообщил по адресу, откуда сестра выслала эту драгоценность. По освобождении из колымских лагерей я узнал, что моя сестра (единственная) не дожила даже до прибытия ее посылки ко мне. Фашистские изверги убили ее в числе многих других в городе Виннице.
Больница в Усть-Утиной занимала огромное барачное помещение. Ведь среди заключенных на Колыме не было недостатка в больных. Палата, в которой я лежал, никак не походила на больничную. В ней помещалось не менее двухсот коек для больных, нуждающихся в хирургическом лечении. Не забуду врача-хирурга Марка Соломоновича Ржезникова, который меня оперировал. После выздоровления я не раз встречался с ним в лагере, там же, в Усть-Ути-ной, но об этом скажу несколько позже.
После операции меня оставили на этой “командировке”, так как для работы в забое я уже не годился. Здесь арестантов использовали на работах в лесу. Этот вид работы нисколько не легче, по-моему, чем в забое, а то и тяжелее. На этой работе мне покалечило левую руку, но врачи говорили, что я счастливо отделался, ибо при таких же обстоятельствах (при падении спиленного дерева) один арестант был убит наповал, а у меня только рука свернулась в “восьмерку”, но спустя недельку приняла нормальную форму. Арестанты, прибывавшие в Усть-Утиную, находились там как бы на бирже труда, оттуда набирали рабочую силу туда, где потребуется. В ожидании отправления куда-либо мы находились в бараках (днем работали для местных нужд).
Не могу забыть один разговор, затеянный каким-то бывшим шофером, жившим в одном со мной бараке. Шофер этот очутился на “командировке”, как и все находившиеся тогда там, после того, как был выписан из Усть-Утинской больницы. Он успел оправиться от двустороннего воспаления легких и ждал отправки на так называемую “производственную командировку”. Фамилию начавшего разговор не помню, а может быть и не знал. Помню лишь, что это был веселый разбитной человек лет 35-ти. Должно быть, уже не раз до этого он занимал соседей по бараку своими разговорами, так как вокруг него собралось немало людей. На этот раз он начал разговор со своими слушателями и о том, кто чем займется по окончании срока заключения. Это, вероятно, было для затравки, для того, чтобы самому сказать, что он решил делать, когда освободится: “Я постараюсь быть на приеме у Сталина и посоветую ему окружить нашу страну такими же вышками, как лагеря на Колыме, и тем самым обеспечить такой же порядок во всей стране, какой существует на Колыме”. Окружающие смехом реагировали на его остроумную фантазию и сейчас же разошлись по своим местам. Надо ли распространяться на тему о том, что вступать тогда в обсуждение этой остроты было бы и неразумно, и беспредметно.
В начале описания этого эпизода я сказал, что не могу забыть этот разговор, а теперь объясню причину этого “не могу”. В 1949 году, когда меня опять арестовали1, следователь Головкин на допросах требовал, чтобы я признался в том, что был зачинщиком разговора о расставленных Сталиным вышках вокруг страны для создания таких же “порядков”, как на Колыме. По правде сказать, я удивился тому, что этот шуточный каламбур веселого шофера, сказанный семь лет назад, стал известен МГБ г.Владимира, где я с января 1949 года сидел в тюрьме. Этот факт свидетельствует о том,насколько провокационно велись допросы и насколько нагло придумывались обвинения, не имевшие никакой правдивой основы. Ведь теперь мне ничто не угрожает, но я и теперь заявляю, что не был автором этого каламбура, а основанием для обвинения меня была ложная агентурная информация. Можно ли забыть такую провокацию? Конечно, нет. Те, которые искажают факты, превращаются в лгунов и провокаторов. Так происходит в малом и большом. Глава 23
Командировка Усть-Утиное оказалась для меня довольно заметной на моих путях-дорогах. На этом пункте Колымы я побыл всего лишь месяца три. После операции меня послали на общие работы. Бригадиром на этих работах был симпатичный человек, который относился к своим подчиненным как к лицам, составляющим команду выздоравливающих. Фамилия бригадира мне запомнилась потому, что она была созвучна с фамилией В.К.Блюхера - Мухер. Его называли только по имени - Александром, так как он был молод и можно было обойтись без того, чтобы величать его по отчеству. Он был уроженцем Одессы, сыном каретника, сам же окончил Одесский технологический институт. Мухер Александр заслужил быть отмеченным хоть несколькими строками о его житье-бытье на Колыме. Мне известно, что после освобождения из заключения он остался на Колыме вольнонаемным, но вскоре там умер.
Усть-Утиное запомнилось мне и тем, что там я встретил такого для меня дорогого человека, как Михаил Андреевич Кушнарев, а также Андрея Михайловича Жегина, о котором я упомянул в рассказе о времени пребывания на Геологическом. Эти двое врачей и оперировав-ший меня М.С.Ржезников жили в одной кабинке и работали в этой огромной больнице. Главное же, чем запомнилась мне командировка Усть-Утиное, это тем, что с этого пункта я был отправлен на работу по своей специальности, т.е. токарем по металлу. Произошло это потому, что по здоровью перестал быть арестантом “первой категории”. За четыре года на “общих работах” и вследствие травмы, полученной мной при падении с тачкой на Встречном, мои силы были настолько подорваны, что дальше использовать меня “только на тяжелых работах”, как значилось прежде в формуляре,было уже невозможно.На это не решались даже колымские наместники Берия.
Спорный - это поселок, куда меня привезли из Усть-Утиной. Здесь была электростанция и ремонтные мастерские автобазы. На второй день после того, как туда привезли, меня разводом привели на электростанцию и определили работать токарем по металлу в небольшой мастерской станции. Нечего говорить, что я очень обрадовался такой работе. Ведь предстояло работать не под открытым небом в любую погоду, как раньше. Работа же по своей специальности, даже если находишься в заключении, не так угнетает, не так отупляет. В этой мастерской было всего два токарных станка, и тут же стоял один слесарный верстак. Можно сказать, “комфортабельная” обстановка. Всего пять арестантов нас там работало. Не забуду слесаря по фамилии Февральский. Этот товарищ говорил, что он из Ленинграда, был членом Выборгского райкома ВКП(б). Он сказал, что в этой мастерской мне не придется долго работать, ибо здесь токарных работ мало, а вот на автобазе токари нужны. Все это оказалось правильным. Через какую-нибудь неделю утренним разводом конвой привел меня в числе многих других арестованных к воротам мастерских автобазы.
Итак, не только прекратилась моя “деятельность” в качестве золотоискателя, но даже перестали бросать меня на “общие работы”, т.е. использовать как разнорабочую силу. В какой-то мере я воспрянул духом. Не следует меня так понимать, будто я хоть на мгновенье примирился с деспотизмом, приведшим большевиков к положению заключенных. Этого не было за все время бушевания сталинского деспотизма. Мне представится в дальнейшем случай остановиться на “проблеме примирения”, а сейчас продолжу об условиях работы токарем на Спорнинской автобазе. Эта работа меня не так утомляла. Кроме того, зная эту работу с юношеских лет, я имел возможность применить кое в чем свой опыт. Был даже такой случай, что начальник цеха обязал других токарей использовать мой способ обточки поршневых колец. В Москве мне довелось обтачивать ксилолитовый материал, и я вспомнил, что на том заводе рентгеновских машин, где я работал в 1936 году, ксилолит обрабатывался керосином. Это придавало стойкость резцу и чистоту обтачиваемой поверхности. Начальник мастерской, к которому я обратился с просьбой дать мне керосин для обточки ксилолита, недоверчиво посмотрел на меня и своим заикающимся говором спросил, не собираюсь ли я пить керосин. После моего объяснения он велел выдать керосин, а сам стал возле станка и наблюдал, как я пользуюсь такой смазкой. Мне запомнился этот незначительный факт еще и потому, что за очень чистые детали меня премировали пятью пачками махорки.
Работа на Спорном спорилась и потому, что в бараках было несколько опрятней, чем в бараках на приисках, да и кормежка была лучше. Что касается хлеба, то мне положили норму в 900 граммов, так как я перевыполнял норму выработки. Казалось, что оставшиеся мне до окончания срока заключения несколько месяцев (до 30 апреля 1943 г.) пройдут благополучно. Но все это оказалось лишь кажущимся. Нарушения лагерного “благополучия” всегда происходили по вине лагерников, я имею в виду так называемых “контриков”. В данном случае единствен-ным виновником и инициатором крушения моего “благополучия” был тот же начальник цеха, который премировал меня пятью пачками махорки. Этот начальник, по фамилии Абрамович, решил показать, какой он патриот. С этой целью он устроил собрание вольнонаемных рабочих всего цеха, на которое пригласил начальника лагеря. Из заключенных, работавших в этом цехе, лишь меня одного, по распоряжению начальника лагеря, конвоир не увел в лагерь. Загадочность такого факта открылась мне после того, как Абрамович начал свою речь. Главным в ней было обвинение меня в саботаже. Это означало по существу отдать меня под суд и судить по ст.58 п.14 Уголовного Кодекса. Положение заключенного не давало мне возможности на этом собрании даже попытаться опровергнуть всю клевету этого подлеца. Кто-то задал вопрос моему обвинителю: “На каком же основании з/к Величко в лагере получает поощрительную норму хлеба, да еще недавно был премирован начальником автобазы?” Этот вопрос, по существу, спас меня. Абрамович промямлил в ответ на этот вопрос, что, так как на фронте тяжелое положение, то к “врагам народа” следует (это было в феврале 1943 г.) “ужесточить отношение”. Начальник лагеря, должно быть, понял всю фальшь и неуместность такого “патриотизма” Абрамовича и счел нужным заметить, что учтет сказанное и разберется по своей линии.
Собрание кончилось. Конвой отвел меня в лагерь, а осадок был таков, что я не спал всю ночь, хотя утром опять нужно было идти на работу, но уже неизвестно, на какую, а самое главное, что терзало меня - это то, что начальник лагеря собирается заняться моим делом по своей линии. Попадись ему какое-либо компрометирующее донесение обо мне, и моя участь была бы решена согласно п.14 ст.58 - расстрел или многолетняя каторга (при Сталине каторга стала мерой наказания уже официально). Каждый день после этого собрания мог принести мне полную катастрофу. Лагерное начальство так и не обнаружило и не могло обнаружить в моем “деле” ничего такого, что дало бы повод к дополнительному репрессированию меня. Сказалось то, что лагерное начальство имело бóльшую власть над заключенными, чем хозяйственные органы, и поклеп заики Абрамовича превратился в мыльный пузырь.
Но вдруг спокойствие сменилось новой и сильной тревогой. Это было 22 февраля 1943 года (почему я запомнил и число, будет ясно позже). Придя в барак после работы в ночной смене, староста лагеря приказал мне немедленно отправиться на вахту. Как гром ошеломил меня этот приказ, ибо он касался лишь меня. Когда готовится какой-нибудь этап, то обыкновенно вызывают многих. Я был уверен, что это результат упомянутого собрания и того, что начальник лагеря согласился с Абрамовичем, и теперь все кончено.
Сборы были недолгими, скинутый бушлат вновь набросил на себя и, получив свою пайку хлеба от дневального и попрощавшись с находившимися в бараке, я пошел на вахту. На вахте, кроме постоянно сидевших дежурных вертухаев с револьверами, был еще один, не только вооруженный револьвером. но и с автоматом на шее и с пакетом подмышкой. Одет он был в большую шубу. Этот конвоир обратился ко мне со стереотипным вопросом о том, какая у меня фамилия, имя, отчество и, конечно, какая статья, глядя при этом в свою пап-ку. Выслушав мои ответы и убедившись, что они совпадают с тем, что значится в его папке, он куда-то ушел. Мне ничего не оставалось делать, как продолжать стоять на вахте. Пайка хлеба была со мной, и я начал ее уничтожать. Ведь прошло уже порядочно времени. Сидевшие дежурные обратили мое внимание на грузовую машину за окном вахты и посоветовали не торопиться с уничтожением пайки, ибо мне предстоит дальнейший путь на указанной машине.Не помню, послушался ли я их совета или нет, но тем временем возвратился тот конвоир вместе с кем-то из конторы начальника лагеря и, показав ему, как я одет, промолвил: “В такой обувке не возьму подконвойного”, - т.е. меня. Такое решение конвоира озадачило работника конторы, тем более, что в эти очень морозные февральские дни я действительно был не в зимней обувке, а в кожаных ботинках. Ни конвоир, ни пришедший с ним человек не знали, почему на мне была такая обувь, и поэтому меня отпустили, и я отправился в барак с дополнительным волнением, так как во время выдачи зимней обуви сам отказался от нее. В бараке дневальный знал, почему я отказался, и буркнул мне. что еще попадет мне и за этот отказ. Так как вся эта утренняя процедура была покрыта мраком неизвестности, то я решил: будь что будет - двум смертям не бывать, а одной не миновать. Может быть, тут будет уместно кратко изложить “историю” моего отказа от зимней обуви, которую выдавали в Спорном. Обувь, предназначенная для з/к, работавших в мастерских, представляла собой огромные резиновые галоши, сшитые из старых автомобильных шин, с голенищами из рукавов бушлатов. Экономили на голенищах, но на чем только не экономили, когда это касалось з/к. Не скупились разве только на всякие притеснения. Такая. с позволения сказать, обувь получила название “никишевки” (это в честь генерала Никишева, возглавлявшего тогда колымские лагеря). Греть эта обувь не грела, а тяжесть была огромная. Так как расстояние от бараков до мастерских было небольшое, то я, как и многие другие арес-танты, не обменивал кожаную обувь. Меня не могли обвинить в демонстративном реагировании на эту несуразную обувь, и поэтому я не принял во внимание мнение дневального.
Зная. что меня не поведут на работу в наступающую ночную смену, я спать не ложился, а пошел в УРЧ (управление рабочей силой), расположенное в зоне лагеря, чтобы хоть что-нибудь узнать о том, куда и зачем меня увозят. Начальник УРЧа, увидев, что я хожу по коридору, позвал меня к себе и с места в карьер поздравил с предстоящим освобождением на “волю”. Меня это поздравление не удивило, ибо я знал. что записанный срок моего заключения кончается, а именно через два месяца и шесть дней, считая с того дня - 22 февраля 1943 г. На мой вопрос, почему же меня собираются куда-то везти, да еще в одиночном порядке, начальник УРЧа мне ответил, что везут меня в Магадан “для назначения на какую-то высокую должность, как только срок закончится”. Этот ответ меня ошеломил, так как он был произнесен самым серьезным тоном.
Не прошло и часа, как меня вызвали к начальнику лагеря. От столь насыщенного событиями дня я совсем растерялся. За прошедшие 1799 дней, проведенных мною в заключении, не было ни одного дня со столькими событиями. Наконец, завершился и этот день, и уже в наступившие сумерки тот же конвоир принял меня для этапирования, так как меня одели и обули в одежду “первого срока”, т.е. во все новое, а кроме этого он получил для меня шубу. В такой одежде не страшен был мороз порядка 40-45°.
Поздно вечером того же 22 февраля мы доехали до командировки лагеря Ягодный. Здесь конвоир сдал меня на “хранение”, а рано утром 23 февраля забрал меня “в полной сохранности” (если не считать того, что в бараке, где я спал, украли мою махорку и десять рублей денег) и повез дальше. Через 3-4 часа езды мы приехали к вахте лагеря. Мой конвоир “сдал” меня представителю УРЧа Магаданского лагеря, который сверил данные обо мне, имевшиеся в пакете, привезенном из Спорного, со своей карточкой и, получив ответы от меня на обычные в таких случаях вопросы, впустил меня в лагерь.
Такого количества бараков я не видел ни в одном из шести лагерей, в которых был (после тюрьмы) до этого столичного лагеря, уже в течение четырех лет. Это было 23 февраля, в день 25-летия Красной Армии. Как мне забыть эту дату водворения меня, бывшего красногвардейца, в лагерь для принудительных работ в своей стране!
Глава 24
Первые недели в магаданском лагере мои думы, естественно, сосредотачивались на одном - на приближении дня освобождения, который должен был наступить 30 апреля. Не могу припомнить каких-либо планов, возникавших у меня в связи с приближением этой даты,но если и были такие планы, то именно в день, столь долгожданный для меня, все планы рухнули. Из арестанта, имевшего “детский” срок - пять лет (при Сталине такой срок назывался детским), я превратился в арестанта с бессрочным сроком. Это может показаться невероятным, но, к сожалению, это было так. При тогдашнем правосудии, которое оберегалось бывшим меньшевиком Вышинским (ведь он был прокурор СССР), достаточно было сообщить арестанту, ожидавшему освобождения, что по распоряжению центра данный арестант остается таковым до особого распоряжения. Такое письменное распоряжение мне прочли в канцелярии магаданского лагеря. В такое кривосудие сталинцы превратили свое же правосудие. Такова правда истории, которая всегда богаче литературного изложения фактов прошлого. Хотел бы изобразить свое нервное состояние бессрочного арестанта, но это не по моим силам. Такое состояние замечательно обрисовал Ф.М.Достоевский (см. 3-й том его сочинений).
Пребывание в тюрьме без замков, т.е. на Колыме, и даже в центре этого края, длилось еще около трех лет. Это время, хотя и самое длительное по непрерывности, не оставило в моей памяти ничего такого, что было бы чем-то особым. Так называемая жизнь протекала однообразно, от развода на работу на авторемонтный завод до привода в лагерь. Путь пролегал мимо так называемой “долины слез”. Это была такая ложбина, в которой ветер постоянно свирепствовал, а зимой особенно сильно, что и вызывало слезы (не плакучие) у арестантов. Летом на этой дороге появлялись детишки вольнонаемных жителей Магадана. Как это ни странно, они вызывали у многих из нас не слезы умиления, а слезы горечи, из-за того, что бросали в нас камни и выкрикивали в наш адрес: “Фашисты!” Камни этих несмысленышей никому из нас так не вредили, как ранили эти выкрики. Такова была магаданская действительность на протяжении почти трех лет. В этом “городке” на четвертом километре от Магадана была библиотека, но времени для чтения было так мало, что думать об этом было трудно. Вспомнилась мне прибаутка, бытовавшая среди арестантов относительно чтения: “Надо было в свое время почитать отца и мать, а не теперь в КВЧ искать что-нибудь почитать”. КВЧ (культурно-воспитательная часть) лагерной администрации, вероятно, кое-что делала для “просвещения” арестантов, но в ее поле зрения “контрики” не входили Однако именно мы, “контрики”, нет-нет, а все же посещали библиотеку. Здесь мне довелось прочесть стихотворение поэта Кольцова, которое называется “Жизнь”. Уж очень мне по душе пришлись тогда слова: “Жизнь, чем обольстила ты меня, если бы бог силушку дал, то разбил бы тебя”. Я все же не последовал совету поэта, и жизнь моя текла так, как у множества арестантов сталинских времен. Отобразить ее невозможно никакими словами, которые имеются в моем арсенале. Из хаоса нагромоздившихся в моей памяти фактов из области “культурной” жизни в те черные го-ды мне хочется отметить получасовое чтение наизусть из сочинения Л.Н.Толстого “Воскресение”. Арестант Цибулевский, бывший завклубом в Киеве. собрал вокруг себя во время обеденного перерыва человек 10-15 з/к для рассказа, как говорили заключенные, “романов”. Каково же было наше удивление и удовольствие,когда мы услышали не надуманный “роман”,а описанный Толстым эпизод, как Катюша Маслова побежала к поезду, которым уезжал Нехлюдов. Пусть этот факт кое-кого удивит, но меня он возвращает к той действительности, в которой оказались люди, сражавшиеся на баррикадах и на фронтах Гражданской войны для победы Октябрьской революции, а при сатрапе Сталине находившиеся в бессрочном заключении. Великий знаток человеческой психики Ф.М.Достоевский, описывая одного бессрочного арестанта, ставил вопрос: “О чем он (бессрочник) мог думать?” И отвечал: “Трудно себе представить” думки такого человека. Легко прийти к выводу, что я должен был превратиться вообще в бездумное существо, и действительно - я превратился в говорящего робота. Ничто не могло вывести меня из такого состояния. Если однообразие, как звук водяной капли в хмурый осенний день, сопровождало меня на этих дорогах, пока я имел срок, то теперь это однообразие полу-чило зловещую перспективу - бессрочность. Разговоры, что предел наступит в день окончания войны, не могли утешить. Ведь насту-пление этого дня являлось сугубо неопределенным по времени, а кроме того, иезуитство сталинских методов как раз и заключалось в том, что действовали противоположно тому, что обе-щали на словах. Недаром уже после ХХ съезда КПСС в журнале “Коммунист” было сказано, что “отличительной чертой деятельности Сталина было говорить одно, а делать другое, т.е.про-тивоположное”. Все сверхсрочные месяцы 1943 года кончились, но и сверхсрочный 1944 год тоже не принес “особого распоряжения”, и заключение продолжалось. Есть народная пословица “На миру и смерть красна”,но в моем “мире” тогда еще не было так называемых “пересиживающих”, и даже если бы такая поговорка была мне по душе, то я все равно не мог бы черпать в ее мудрости утешения для себя.
Все мои знакомые по магаданскому лагерю и по работе в АРЗе были еще срочниками. О некоторых из них я упомяну. Вот несколько портретов.
Иванов Петр Николаевич. Он был арестован в Харькове, где работал на тракторном заводе ведущим конструктором. По его словам, он считался “балластом” в парторганизации завода, так как был пассивным, но однажды в злосчастном 1937 году выступил в защиту своего товарища. На второй день после этого его забрали прямо из конструкторского бюро, а через месяц “тройка” влепила ему “десятку”. С первого дня на Колыме, где он очутился “за здорово живешь”, его послали работать инженером на тот завод, где мы с ним познакомились. Видимо, начальство УСВИТЛа поняло, что этот Иванов не “контрик”, расконвоировало его. Он сделал себе каморку в конструкторском отделе завода и жил в ней. Это дало ему возможность в лагере бывать очень редко и не видеть и не испытывать унижений, создаваемых лагерными “вертухаями”. На производстве была другая обстановка, и она его устраивала. Он считал, что так и “обойдется” до 1947 года, т.е. до срока его освобождения.
Ваня Быков. В 1938 году он работал как выдвиженец в Октябрьском райкоме комсомола в своем городе - Ленинграде. В конце того же года был арестован и получил восемь лет заключения в исправительно-трудовых лагерях по решению “тройки”. На вопрос, за что он получил этот срок, он всегда отвечал: “Меня зачислили в стан антисоветских людей - и не приставайте ко мне с вопросами”. Он был настолько ошарашен таким приговором, что одно время ни с кем не разговаривал. Несмотря на молодость, его оставили в Магадане, и он работал токарем по металлу на том же АРЗе. Он был очень квалифицированным токарем, так как до своего выдви-жения успел проработать по этой специальности 8-10 лет на одном из заводов Ленинграда. Ему было 28-30 лет, но он производил впечатление застывшего в возрасте не более 20-ти. Я иногда называл его “законсервированным”. Он в таких случаях злобно отвечал: “Меня законсервировали в 1937 году”.
Полонский Леонид Моисеевич, инженер-электрик. Этот человек был арестован в Магадане, куда приехал за “длинным рублем”. Ему было тогда уже 60 лет. Выполнял он какую-то конторскую работу на заводе и был этим доволен. Помимо работы на заводе он еще состоял в оркестре лагеря и играл на трубе (КВЧ все же какую-то культурно-воспитательную работу проводила, в особенности среди “бытовиков”). Если этот инженер и успел в свое время получить “длинный рубль”, то ко времени моего с ним знакомства в лагере от этого рубля у него ничего не осталось. “Пополнял” он свой арестантский рацион тем, что одну и ту же пайку по нескольку раз варил в солдатском котелке. По какой-то непонятной причине он сумел сохранить эту посудину. Может быть, потому, что был искусным трубачем. Сожалею,что встретив Леонида Моисеевича в Москве в 1957 или 1958 году, я не поговорил с ним о времени нашего пребывания на “чудесной планете”, где в году “12 месяцев зима, а остальное - лето”.
Николай Дмитров. Этот высококвалифицированный инструментальщик-лекальщик был также очень высоким и по росту.Это давало ему повод завидовать моему росту.Он оправдывал свою зависть тем, что, по его мнению, мне надо было значительно меньше пищи. В условиях лагерной жизни это имело немаловажное значение. Я называю Николая Дмитрова товарищем не только потому, что мы работали на одном заводе и жили в одном арестантском бараке. С этим Николаем у нас оказалось очень много общих партийных товарищей по бывшему Сталинграду, где он работал на тракторном заводе, а я на заводе “Баррикады”. Мы состояли с ним одновременно в партийных организациях, объединенных одним городским комитетом.Он знал секретаря горкома тов.Викснина Симона Оттовича, зав.орготделом горкома Карпова Александра. Называл секретаря парткома тракторного завода тов.Трегубенкова Кузьму Егоровича. Хорошо отзывался и о директоре этого завода тов.Пудалове и знал, что последний покончил с собой, дабы миновать наши пути-дороги. С этими общими знакомыми и товарищами состоял сочленом бюро горкома партии. Они были необоснованно репрессированы, кроме тов.Трегубенкова К.Е., о котором мне надо будет сказать на самых последних страницах этого повествования. Не могу сказать, что разговоры с этим моим земляком по Волгограду были содержательны. Но из-за множества общих знакомых наши беседы были частыми и всегда переключались на тему о том, когда же придет конец нашим мытарствам. И он, бывало, говорил, обращаясь ко мне: “У тебя вот срок кончился. а мытарства арестанта продолжаешь терпеть”, - и добавлял: “Кричи-не кричи - никто не услышит”. Среди моих тогдашних товарищей запомнился мне Павел Русских. До ареста он был секретарем одного из горкомов комсомола на Урале. Ему было тогда не больше 30 лет. Срок заключения для него “тройка” установила пятилетний. Он освободился по истечении этого срока, в мае или июне 1944 года, и остался работать на том же заводе вольнонаемным. Мы с ним были соседями по токарным станкам, а это позволяло и на работе видеться, и переброситься коротким разговором. Как только стал “вольняшкой”, он начал работать по восемь часов, но и за это время он выполнял не меньше, а подчас и больше, чем ранее за двенадцать. Бывало, спросишь у него: “Паша, чего ты так неистово работаешь? Ведь от работы кони дохнут”. А он мне в ответ: “Знаешь, Семен, я не согласен с этой поговоркой, ибо если человек не будет работать, то он сдохнет”. Я запомнил это его изречение и, наверное, никогда не забуду, ибо ни разу за свою жизнь не слыхал другого высказывания, которое было бы столь мудрым. Этот тов.Русских рассказал мне о причине того, почему нас, з/к з/к, в один из дней лета 1944 г. увели обратно в лагерь, хотя с утра привели на завод для работы. Оказалось, что в этот день завод посетил вице-президент США Генри Уоллес, и нас убрали, дабы он не видел заключенных. Об этом факте много можно было бы написать, но считаю возможным ограничиться сказанным. Среди многих перечисленных людей, с которыми я общался, не было таких, которые “пересиживали”. Это позволяло им всячески успокаивать меня. Временами я мысленно благодарил их за товарищеское сочувствие. Хотя настоящее сочувствие могли бы испытывать лишь такие же, как я, бессрочники, но все же их теплое отношение согревало меня.
Шел 1945 год. Минуло два года с тех пор, как “законный” “детский” срок незаконного решения о заключении меня в концлагерь кончился, а просвета на моем горизонте не было никакого. Правда, когда наши войска перешли в решительное наступление на гитлеровскую Германию, возникли слухи, что будут освобождать пересиживающих. На эти слухи я начал возлагать надежды, что они превратятся в действительность. Мне стало известно, что лагерное начальство совместно с дирекцией завода АРЗ возбудили ходатайство об освобождении из лагеря тех, кто “пересиживал”. Изложу здесь один факт по этому поводу. Однажды, должно быть, в марте 1945 года, на завод пришел начальник Колымских лагерей генерал Никишев. Он появился в цехе, где я работал, со свитой, в которой был и директор завода. Проходя мимо станка, на котором я работал, и,видимо, заметив, что я уже немолод, он замедлил шаг и обратился ко мне с вопросом:“Как дела, старина?” Мой ответ был краток:“Мои дела плохие”. И я тут же объяснил, почему плохие: “Вот уже два года пересиживаю. И не знаю почему”. В этот диалог включился директор завода Голиков, так как Никишев спросил его: “Вы об этом знаете?” Он ответил. что знает, и добавил, что дирекция ходатайствовала об освобождении, но результата “еще” нет. Положительного результата не было и ко времени окончания войны. Как известно, 9 мая 1945 г.война с Германией кончилась. В день победы над Германией колымские тюремщики изощрялись в том,чтобы найти какие-то особые способы поиздеваться над нами, заключенны-ми, и нашли такой: 9-го мая, как в обычный день, нас с утра погнали на работы. Спустя часа два погнали обратно в лагерь, не по постоянному маршруту, а другой дорогой, чтобы мы не видели убранства города по случаю победы. Побежденные немцы могли свободно ходить по улицам городов, занятых советскими войсками. Мы, арестанты Сталина, даже под конвоем не имели возможности пройти по улицам, украшенным по случаю победы. Нужно ли распространяться по поводу такого издевательства? Полагаю, что такой надобности нет, но накипевшая у меня злоба - из-за этого издевательства и из-за нахождения в заключении “сверхсрочно” и по окончании войны - вызвала у меня решение пойти к начальнику лагеря для получения ответа, когда же меня освободят. Ответом на этот мой вопрос были слова: “Тогда, когда Москва распорядится”.
На моих путях-дорогах было множество невзгод. Часто эти невзгоды были схожи, хотя они происходили в разное время и, следовательно, по-разному воспринимались мною. Но то, что мне пришлось пережить после этого злосчастного посещения начальника лагеря, хотя он внимательно меня выслушал, является из ряда вон выходящим переживанием, которое никогда не забуду. Я уже собрался уйти восвояси, т.е. в барак, когда начальник опять заговорил, проявляя свой либерализм. Он даже задал мне вопрос, не хочу ли я отдохнуть. Такой необычный вопрос к заключенному меня озадачил, и я нашелся лишь через какие-то минуты, чтобы ответить следующим образом: “А какой арестант отказался бы отдыха хоть на короткое время?” Начальник не пропустил мимо ушей слово “арестант” и обратил мое внимание на то, что теперь нет арестантов, а есть з/к, и это, мол, разные понятия. Я позволил себе высказать ему свое мнение, что “хрен редьки не слаще”.На этом“аудиенция”кончилась.Часа через два меня вызвали в санчасть лагеря. Врач, заключенный Шумский, сказал, что начальник лагеря приказал отправить меня в сангородок (23 км от Магадана), где организован специальный стационар для отдыха. Тов.Шумский поведал мне, что в этом стационаре неплохо организовано житье-бытье з/к, з/к и что по истечении двух недель отдохнувший з/к попадает на то же место, откуда был направлен. Одним словом, нарисовал хорошую перспективу и даже позавидовал мне. Он оформил документы, по которым меня должны были отправить (конечно, с конвоем), и через три-четыре часа я очутился в сангородке на 23-м километре. Вместе со мной из магаданского лагеря были привезены еще с десяток арестантов для помещения в больницу, которая тоже была в этом городке, предназначенном для большей части Колымы.
После “санобработки” меня поместили не в “райский” дом отдыха, а в самую что ни на есть камеру с решетками на окнах и с мощным тюремным замком на дверях, в которой содер-жались умалишенные арестанты.Ужасу моему не было границ, когда я увидел. что делается в этой камере. Ведь только вчера я работал у станка, где был в среде нормальных людей, да и в лагере находился среди таких же, а здесь лежали на прикрепленных к полу койках или бегали по камере страшные существа в облике людей. Без содрогания невозможно вспомнить то, что предстало перед моими глазами и что доходило до моего слуха. Не знаю, сумеет ли тот, кто когда-нибудь прочтет эти строки, представить себе эту “картину” по тем чертам, которые мне запомнились. Вот отдельные примеры. Молодой арестант сидит на полу у зарешеченного окна и крошит свою пайку хлеба. Он не ест ни грамма,а слюной и другой жидкостью превращает хлеб в мягкую массу и из нее выделывает разные игрушки и играет ими, как трехлетний младенец. Как только завидит через окно какого-нибудь человека, начинает кричать: “Голубушка, хочу курить, возьми мои изделия скульптурного искусства и дай мне покурить”. Такой крик длится долго, пока он видит человека за окном. На смену этому несчастному начинает исступленно выть другой. Этот другой лежит на койке. Сквозь вой проскальзывают слова: “Отдайте мне мою руку, которую оставил на луне”. Такие кошмары дополнялись безумными (то ли это слово?) поступками третьего арестанта в возрасте 40 лет. Пищу, которую он получал,он смешивал с жидкостью из себя же и все съедал. Ужас заключался еще и в том, что никто из этих персонажей ни полслова не говорил друг другу, а разговаривал только сам с собой. В этой “обстановке” я бы погиб, не предприняв ничего и не мобилизовав все свои силы, как нервные, так и физические (может быть, это одно и то же). Двое суток я не прекращал стучать в запертую дверь камеры, требуя врача для всестороннего исследования меня. Лишь при дежурстве врача Ситкина Петра Алексеевича (имя и отчество я узнал у тов.Ржезникова), который сейчас, как я узнал, живет в Ленинграде, я добился, чтобы меня из этой камеры забрали, но пережитое привело к тому, что поместили меня опять-таки не в дом отдыха, а в нервное отделение этого огромного больничного городка. В нервном отделении палаты были не под замком, не было и решеток на окнах, но больные в палате были явно ненормальные. Как иначе можно назвать человека, который лежа на койке не перестает плакать навзрыд обильными слезами. Лишь когда он засыпает, затихает громкий плач. Другой был еще более ненормален. Он все время что-то бормотал, а четко лишь выго-варивал слова: “Онанизм оздоровляет организм”. Это, конечно, вызывало смех соседей, но та-кой смех, который печальнее всех слез. Особенно “настойчиво” твердил одержимый свое изре-чение во время обхода врачей. При этом он, обращаясь к врачу, спрашивал: “Доктор, вы выве-сили мой приказ по больнице, что для оздоровления организма нужно заниматься онанизмом?” - и тут же закрывал голову одеялом. Во французском журнале “География и история” сообщали, что к убийце Меркадеру Рамону, сидевшему в одиночной камере мексиканской тюрьмы, время от времени впускали его жену. Надо полагать, что тому преступнику не приходилось прибегать к такому способу оздоровления своего организма. В том же журнале сообщается, что на этой привилегии преступнику настояла та же личность, которая организовала массовое заключение советских людей в тюрьмы и лагеря... Этот пункт в 23-х километрах от Магадана мог бы превратиться в трагический пункт на моих путях-дорогах, не найди я в себе силы противоборствовать кошмару той обстановки. Мне удалось доказать, что я нахожусь в нормальном состоянии, и меня отправили, при содействии опять-таки тов.Ситкина Петра Алексеевича, обратно в магаданский лагерь. Лишь когда я опять начал работать на том же заводе, я оправился от дополнительной травмы, полученной в результате “отдыха”, который устроил мне начальник лагеря.
Глава 25
В лагерь, где я находился, стали прибывать частые и многочисленные этапы заключенных. По виду эти, вновь прибывшие, резко отличались от нас,“стариков”. Все они были в возрасте не старше 30 лет и с заметной военной выправкой. Скоро стала известна причина такого различия. Это были наши воины, принимавшие участие в только что оконченной войне. Как во всех войнах в прошлом, так и в последней, были пленные. Этих-то, вернувшихся в свою страну из немецкого плена советских воинов генералиссимус Сталин распорядился заключить в лагеря, зачислив их в “ранг” изменников. Их прибытие явилось встряской для нас, давно заключен-ных. Что касается переживаний “новеньких”, то описать это может только большой психолог или непосредственно кто-нибудь из них самих. Встряска создалась не только потому, что среди нас оказалось много новых людей, но и потому, что усиленно начали поговаривать о том, что начнется отправка “старожилов” на при-иски и вообще “в глубинку” Колымы, для того, чтобы освободить рабочие места на заводе для “изменников”. Таким ярлыком начальство окрестило наших воинов, хотя среди них не было ни власовцев, ни бендеровцев.
Не то в конце декабря 1945 года, не то в январе 1946-го я в составе еще нескольких десятков арестантов был отправлен в этап. Как всегда, никто из нас не знал, куда нас погонят и “что день грядущий нам готовит”. Из того, что этот этап должен был двигаться пешком, каждый из нас сделал вывод. что это, должно быть, не очень далеко от Магадана. Глубокой зимней порой не так уж плохо шагать по свежему воздуху. Хоть у меня и всплыли воспоминания о трагической гибели нескольких арестантов, когда мы попали в воду, идя по неокрепшему люду, но в данном случае такого не могло произойти, так как морозы уже давно заковали все водоемы, если бы таковые и встретились на предстоящем пути. После 6-7 часов ходу (с отдыхом), поздно вечером мы “пришвартовались” к воротам очередного лагеря. Конвоиры приступили к осточертевшей нам процедуре проверки для сдачи новым хозяевам наших душ и тел. Несмотря на поздний ночной час, возле кухни лагеря происходила работа по распилов-ке дров. Некоторые из нас (в том числе и я) попросили работающих дать нам возможность сменить их, чтобы хоть немного согреться. Но это так и не удалось, староста лагеря распорядился разместить нас по баракам. Мне в данном случае повезло. Я очутился на нарах рядом с человеком, угостившим меня вареной картофелиной. Хотя она была как будто подслащенной,это не помешало мне съесть ее с аппетитом. Я не помню, чтобы в пище, какую давали на Колыме, была картошка, а тут сразу такой “деликатес”. Этот мой новый знакомый поведал мне, что “ко-мандировка” расположена в старом русском селе под названием Ола.Так этот новый лагерь и назывался.Он тут же сказал мне, что этот лагерь из всех колымских оказался наиболее легким. Из его рассказа я также узнал, что до ареста он был комиссаром полка и, как он выразился, “за милую душу” попал в “ежовые рукавицы”, но сейчас уже ждет освобождения, которое должно наступить в 1948 году. (Мысли заключенного всегда о свободе.) Когда я ему сказал, что мой срок освобождения наступил еще в 1943 году, но до сих пор, как он видит, я нахожусь в заклю-чении, он как будто немного приуныл, но меня все же старался подбодрить. С первых дней на этой командировке я пришел к выводу, что мой новый товарищ, быв-ший комиссар полка Иван Силантьев, прав в оценке олского лагеря. Меня послали работать в механическую мастерскую по ремонту катеров немногочисленной флотилии на реке Оле. Я в этой мастерской был одним из трех токарей. Начальник мастерской Илья Иванович (фамилию забыл) довольно лойяльно относился к заключенным и исхлопотал, чтобы нас пускали в мас-терскую и обратно без конвоя. Для меня это была такая новость, что я не мог поверить в ее ре-альность. Правда, все это возможно было осуществить потому, что от лагеря до мастерской было не больше 10 минут ходу. Одним словом, и мне этот лагерь “понравился”. Я беру в кавычки слово “понравился”, потому что не может быть и речи о том, что места, в которых находятся невинно осужденные, могли бы понравиться. Однако то. что я видел в этом селе Ола, мне все же понравилось и запечатлелось в памяти. Это было северное сияние. Не знаю, к чему отнести это явление - к природному или атмосферному явлению, но оно было величественно. Седой бахромой сияло оно от огненных столбов, идущих от неба до земли. Несмотря на лютый мороз, заключенные, не спавшие в то время, вышли из бараков и любовались этим зрелищем на суровом и угрюмом севере. Мой новый знакомый тов.Силантьев был среди нас, любовавшихся этой картиной. Мне хочется сказать то, что осталось в моей памяти о нем. Этот бывший комиссар полка Красной Армии после долгих лет работы в шахтах Колымы был актирован как уже не годный для работы в шахтах. Это привело его на “командировку” в село Ола. Здесь он стал конюхом в местном совхозе, где одновременно занялся агрономией. Должно быть. его крестьянское происхожде-ние потянуло его к этой деятельности. Он вознамерился вырастить на Колыме картошку, такую же, как в его Смоленской губернии, - не сладкую, а обыкновенную. Намерение его не увенчалось успехом, картошка вырастала сладкая. Иван Петрович Силантьев пробовал свои способности и на другом поприще, но тоже неудачно. Песню о том, как ямщик,умирая в степи,завещал обручальное кольцо жене, Силантьев решил дополнить завещанием о передаче телогрейки своему сыну Андрейке. Получалось довольно забавно по поводу богатства з/к, заключавшегося в знаменитой арестантской телогрейке, и кое-какой рифмы. В бараке, в котором мы помещались, среди нас был и представитель духовенства - подмосковный дьякон Троицкий. Этот человек не напускал на себя какой-либо отчужденности от других заключенных из-за своего духовного прошлого. Он и песни пел своим неплохим голосом, в особенности отнюдь не духовную русскую песню, в которой имеются слова “поедем, красотка, кататься”, а называется “Окрасился месяц багрянцем”. Эту песню было приятно слушать. Забавно было слушать, как Троицкий рассказывал, что когда односельчане величали его “отец дьякон”, он их поправлял и напоминал, что он не дьякон, а протодьякон, подчеркивая дважды: “прото-прото-дьякон”. Как видно из этих немногих строк, лагерь Ола напоминает мне не только мрачное время. Там я с восхищением наблюдал северное сияние. Это ведь не рядовое явление. Лагерь этот был для меня отличительным и тем, что там были и арестантки. До этой “командировки” мне ни разу не довелось быть в одной зоне с женщинами. Начальство лагеря лишь отгородило их бараки от мужских проволокой.
На этом колымском перекрестке я познакомился с бывшей зав.женотделом ЦК компартии Украины тов.Левкович Ольгой Астаховной. Здесь ей уготовили поприще домработницы. Такое амплуа для крупного работника большевистской партии не может не вызвать возмущения, но разве только такую мерзость творили сталинцы? Мы с Ольгой Астаховной установили, что у нас было много общих товарищей по работе на Украине, участь которых нам тогда была неизвестна. Эта моя землячка по Колыме живет теперь в Москве и ведет посильную работу в общественном порядке. Уверен, что тов.Левкович Ольгя Астаховна не будет в претензии ко мне, что она заняла такое скромное место в моих записках. К сожалению, я не располагаю большими данными о путях-дорогах ее большой жизни, но, как видно, и она не миновала Колымы.
Еще об одном моем товарище по этому лагерю мне хочется здесь вспомнить. С ним, Рыжовым Дмитрием Николаевичем, мы вместе пришли этапом из Магадана. Он был родом из Ярославской области. Арестовали его, когда он находился в рядах Красной Армии на политра-боте. По возрасту он был моложе меня на три года, но успел участвовать в Гражданской войне и по окончании ее остался в рядах Армии. В члены коммунистической партии вступил в 1920 г., а в 1937 г. его постигла такая же участь, как и огромное количество большевиков, - его аресто-вали, как и всех нас, ни за что ни про что. На заводе в Магадане он научился новому делу, стал гальваником, проработав два года в гальваническом цехе,. В лагере на Оле не было такой ра-боты,и его определили сторожем в каком-то хозяйстве совхоза,где он и жил вне лагеря, вернее, в лагере, но без проволок и ограждения и без вышек вокруг. Общение у нас поэтому было нечастое, а иногда оно поддерживалось записками. Такая, необычная для лагеря, форма связи. Однажды я получил от него записку, в которой среди прочего он писал, что привык к обстановке, в которой находился. Это сообщение меня возмутило, ибо я не допускал, чтобы можно было хоть на мгновение привыкнуть к необоснованному заключению таким людям, как мы. Ведь он, Дмитрий Николаевич, тоже был бессрочным. Я при первой же встрече высказал ему свое возмущение. Он согласился со мной и сказал, что написал так не подумав. Был он искренним и добродушным человеком, и я простил ему его оплошность. Мы продолжали с ним дружить несколько месяцев, но об этом я еще скажу в другой связи.
Самое главное событие для меня, которое произошло в то время, когда был в лагере Ола, это состоявшееся освобождение из заключения. Ведь я был в бессрочном заключении. Вряд ли сумею хоть приблизительно отобразить свое нервное состояние от этой внезапности. Возможно, что выражение “удивительная нервность”, которое я прочел в газете “Правда” от 12 июня 1971 г. в статье Сергея Сартакова, подходит к тогдашнему моему состоянию. Оно возникло 7 августа 1946 г. на очередной поверке арестантов, после которой начальник лагеря заявил мне, что я освобожден из лагеря и могу идти куда хочу. Использовать это разрешение по существу у меня не было никакой возможности, ибо пойти-то мне не было куда. И я пошел к себе в барак. Мои товарищи по бараку меня всячески поздравляли, но я оставался как будто не реагирующим, и не только потому, что не знал, как реагировать, но и потому, что мое освобождение задержалось на две недели, во время которых “удивительная нервность” особенно разбушевалась. Мне объяснили эту задержку тем, что курьеры из Магадана привезли документы об освобождении меня без печати и надо было их вернуть в Магадан для того, чтобы поставить печать. Такие казусы также были в канцеляриях ведомств презренного Берия. Эти две недели я продолжал работать в той же мастерской, за что мне платили заработную плату, а кормить продолжали бесплатно в лагере. Такое льготное положение было очень кстати, ибо в ином случае мне пришлось бы без копейки денег уехать из Олы в Магадан, а остаться в этом селе “вольняшкой” мне не хотелось (может быть, зря не хотелось). Я воспринял это внезапное освобождение, будто вновь родился, хотя мне было уже пятьдесят лет. Первое рождение никто из людей не помнит, второе рождение я помню отлично - это было 7 ноября 1917 г., т.е. когда свершилась Октябрьская пролетарская революция. 7 августа 1946 г. я посчитал своим третьим рождением. Такое восприятие вызвало у меня желание написать что-то такое, чем можно дать название “Трижды рожденный”. Из этого желания тогда у меня ничего не получилось, да и вряд ли когда получится. Может быть. изложенному на этих страницах следует дать такое название. Это, конечно, не важно. Важно то, что из замкнутых тю-рем и незамкнутой Колымы я, наконец, освободился.
Из “хорошего” лагеря я уехал в Магадан, но уехать с Колымы я и не думал тогда, в августе 1946 г.,по той простой причине, что мои близкие и родные с “материка” не давали мне знать о себе. В том же месяце я поступил работать на тот же АРЗ, где работал заключенным. Меня назначили контролером ОТК 2-го механического цеха с довольно приличным окладом, и я стал вольнонаемным работником. В нерабочее время свободно (вначале было непривычно) ходил куда хотел, в том числе и театр посетил после многолетнего перерыва. Одним словом, я начинал оттаивать, хотя жил в общежитии, которое не очень отличалось от лагерных бараков. Должно быть, через месяца два из Олы приехал в Магадан и тоже поступил на этот завод мой друг Рыжов, о котором писал. Он немедля начал действовать для того, чтобы уехать на “материк”, к своим родным, которые поддерживали с ним постоянную переписку. Он уехал вскоре в Киев. Все мои попытки узнать о нем что-нибудь не увенчались успехом.
Глава 26
В Магадане тогда жил мой солагерник тов.Александр Куприн, с которым я был неплохо знаком по совместной работе на заводе АРЗ. Этот товарищ рассказывал мне, что был на комсомольской работе в Туле, но, оказавшись по неизвестным ему причинам в заключении, совершенно перестал, как он выражался, “политически мыслить”. Он попал на Магаданский завод и проявил большие знания и способности в области техники. Приехав из Олы, я его увидел на заводе вольнонаемным, и он мне сказал, что живет не в бараке, а самостоятельно., так как женился. Пригласил меня к себе в гости. Признаюсь, такое приглашение было для меня очень заманчивым. Ведь прошло более девяти лет, как я не был в домашней обстановке, а тут такая возможность представилась, и я с удовольствие принял его приглашение. Не помню подробностей этого “визита”,но то, что я запомнил, не богато радостью. Комната, которую занимала чета Куприных, была очень маленькая и почти без мебели, хотя у них уже к тому времени родился ребенок. Жена А.Д.Куприна рассказала мне, какими путями оказалась на Колыме она. Слушая ее повествование, я еще и еще раз убеждался, насколько бесчеловечен был режим, царивший при Сталине. Ольга Ивановна (жена Куприна) до ареста работала на каком-то пензенском предприятии в качестве сверловщицы. На этом предприятии в 1943 году вступила в комсомол и, как большинство советских людей, работала на своей скромной должности так,чтобы помочь одержать победу над фашистской Германией. Однажды эта миловидная работница (у меня сохранилось ее фото вместе с мужем) опоздала на работу из-за болезни матери. Опоздание было, по ее словам, порядка получаса. К работе ее допустили, но спустя три дня вызвали в контору предприятия, и оттуда она уже не вернулась ни на работу, ни домой. Ее арестовали, и по “указу” она была приговорена к трем годам заключения, а в 1944 году оказалась на Колыме, в лагере. В конце 1945 года она была освобождена. Закончила она свой рассказ тем, что применила известную поговорку “не было бы счастья, да несчастье помогло”. Не думаю, что все старые поговорки применимы к жизни, но Ольга Николаевна была по-настоящему счастлива, так как А.Д.Куприн был замечательным человеком. Другое дело, что и такой замечательный человек, да и сама Куприна, могли бы быть счастливы и не проходя по путям-дорогам, приведшим их на Колыму. Чета Куприных очень дорого заплатила за свое счастье, как и те, которые остались в живых после сталинских этапов по тюрьмам и лагерям. “Вольная” жизнь моя на Колыме длилась недолго, хотя я и не предполагал, что так произойдет. Однажды, идя с работы, т.е. в барак, отведенный для вольнонаемных, я встретил знакомую - Ал.Львовну Пер. Поведали друг другу о том, как живем. Она сказала мне, что едет в Москву проводить там очередной отпуск. Она стала “вольняшкой” значительно раньше меня. Я пожелал ей доброго пути. Она знала, что до ареста я жил в Москве и что там осталась моя жена, сестра которой дружила с ней, Александрой Львовной Пер. Я позволил себе спросить ее, увидит ли она свою подругу. Она ответила, что постарается это сделать, но не знает, захочет ли та ее видеть. Дело в том, что Пер была в заключении несколько лет как “враг народа”, а “бдительные”, не только подруги, но и более близкие между собой люди,не считали возможным общаться с людьми с такими ярлыками, наклеенными сталинцами. В пример она привела факт поведения моей бывшей жены. Я не стал ее уговаривать, чтобы она повидалась со своей подругой, но на прощание сказал, что если увидит свою подругу, то пусть та передаст сестре, что ее бывший муж (т.е. я) жив и работает вольнонаемным после девятилетнего заключения. Через месяца два после этой случайной встречи с тов.Пер мне в цех позвонил начальник ОТК завода и попросил, чтобы я к нему зашел после работы. Это было 7 декабря 1946 г.1 Когда я зашел к нему, он сказал мне, что Ал.Львовна Пер приехала из отпуска и по телефону просила передать мне свой адрес, чтобы я зашел к ней домой. Поблагодарив начальника за извещение, я после работы отправился по указанному адресу. Александра Львовна занимала неплохую квартиру, а по сравнению с бараком, в котором я жил, мне показалось, что я попал в роскошную обстановку. Наш разговор начался обычными распросами. Я интересовался тем, как она съездила в “большую деревню” - Москву. (Ведь оттуда она была отправлена на Колыму лет за десять перед этим.) Она мне рассказала, что ее две дочки живут в Москве, но младшая не признала ее как мать, чем сильно огорчила. На обратном пути из Москвы Александра Львовна повредила себе ногу, и хотя уже должна была бы приступить к работе, но из-за ноги не сумеет это сделать, так как врач обязал ее соблюдать постельный режим. Я из этого сделал заключение, что засиживаться у нее не должен, и перед уходом попросил разрешения закурить. Принялся делать себе закрутку из махорки. Александра Львовна, увидев эту “операцию”, попросила прекратить ее и, указав на столик, на котором лежал пакет, предложила мне взять себе из него пачку папирос. Признаюсь, для меня это был ценный дар. Кроме папирос, в пакете еще было кое-что, присланное мне из Москвы. Помимо пакета я унес и письмо от моей бывшей жены. Это письмо послужило толчком для того, чтобы я принял решение об отъезде на “материк”. Такое решение нахлынуло на меня после того, как прочел письмо. В нем было сказано, что если я имею возможность приехать “в наши края” (так писала моя бывшая жена), то это следует сделать, т.е. приехать. Я употребил слово “нахлынуло”, так как именно это выражение отражает то состояние, в которое меня привело прочтение письма. Как никак, прошлое дало себя знать, и мое стремление поехать “в на-ши края” изо дня в день крепло. В начале января 1947 года я подал заявление о расчете.
Здесь мне хочется отметить один факт, который, по-моему, характеризует тогдашнее положение в стране. Начальник ОТК завода, приняв мое заявление, заинтересовался, что является причиной расчета. Я ему сказал, что уезжаю в Москву. Он с удивлением посмотрел на меня и счел нужным высказать свое мнение по поводу этого. Не припомню дословно, что он сказал, но смысл был таков, что зря я решил ехать на “материк”, ничего хорошего не ждет бывших заключенных и в особенности тех, которые были причислены к “врагам народа”. Я не послушался совета моего начальника, хотя считал его очень порядочным человеком, и лишь ответил ему, что “врагом народа” никогда не был и поэтому опасаться мне не следует. Увы, должен признаться, что недостаточно реально оценивал порядки, установленные в стране Сталиным и его подручными. Из дальнейшего будет видно,что прав оказался начальник ОТК (к сожалению, забыл его фамилию, но отлично помню, что это была литовская фамилия). Не только ничего хорошего, а огромное количество невзгод постигло меня. О них будет речь позже.
Оформление расчета и получение документов, дающих право на отъезд из “обетован-ного” колымского края, заняло несколько дней. К слову сказать, в помещении, где выдавались проездные документы, была такая теснота, что уезжавшие “друзья народа” сочли за лучшее для себя ходить по головам тесно стоявших людей, чтобы таким образом скорее очутиться у окошка выдачи документов. Слова “ходить по головам” надо понимать здесь буквально, а не в переносном смысле. От Магадана до Находки теплоход плыл две недели, вместо семи дней. Так получилось потому, что пароход попал в окружение льда, и ледокол должен был прокладывать дорогу. Эти две недели на пароходе не отличались никакими прелестями нормального путешествия.У меня лично осталось в памяти, что за одну папиросу (папиросами торговала команда парохода) я уплатил 25 рублей. Заготовленная мною махорка была украдена, зато сухарей мне до Находки хватило. В Находке было довольно тепло, хотя февраль только наступил.Погоду запомнил пото-му, что в ожидании поезда приехавшие колымчане пару ночей провели на открытом воздухе. Путь от Находки до Москвы преодолевался поездом, называвшимся“пятьсот веселый”. В составе поезда не было ни одного классного вагона, а только товарные. Такое название, дол-жно быть, было дано поезду из-за того, что на каждой станции, на которой он останавливался, сразу становилось “весело” от дебошей и грабежей, творимых пассажирами. Ведь это были главным образом “друзья народа”, т.е.воры и бандиты. Они же умудрялись производить грабежи и в вагонах, где помещались не их собратья. Такая участь постигла пассажиров вагона, в котором я ехал и в котором был избран бригадиром. Это обстоятельство привело к тому, что на станции Кунгур (на Урале) я добился у жел.дор.милиции ареста двух негодяев, зачинщиков грабежа пассажиров в “моем” вагоне. Чтобы довести дело до конца, т.е. отдать под суд этих мерзавцев, мне пришлось остаться на этой станции в ожидании другого поезда. Следует отметить, что по предложению /милиции?/ жел.дор.администрация организовала мне все необходимое для отдыха и оформления билета на следующий пассажирский поезд, с которым 27 февраля 1947 года я приехал в Москву.
Глава 27
События и факты толпятся в моей голове и наскакивают одно на другое. Девятого февраля 1947 г.,находясь в пути на Москву, я столкнулся с такими, “скакивающими” событиями. В этот день “пятьсот веселый” остановился на станции Бикин (Дальневосточного края), в вагон вошел человек в форме железнодорожника и, пригласив всех ехавших в нем пойти с ним, выдал нам избирательные бюллетени. Оказалось, что в этот день происходили выборы в Верховный Совет не то РСФСР, не то СССР. Избирательный участок был расположен недалеко от вокзала. Все мы приняли приглашение и пошли за этим человеком.Кроме нашего, были приглашены и пассажиры из остальных вагонов этого состава. Получилось довольно внушительное количество граждан, обретших право голосовать на выборах в верховные органы страны, хотя эти граждане только-только вышли из заключения. Для меня это неожиданное превращение в “полноправного” гражданина дополнилось тем, что по дороге в избирательный участок меня кто-то из железнодорожников окликнул по фамилии. Я опешил от этого оклика, так как не мог предположить, что кто-нибудь на этой станции помнит меня. К моему удивлению оказалось, что начальник станции узнал меня даже в арестантском бушлате, ибо часто видел меня тогда, когда я был начальником 3-го отделения политотдела Уссурийской железной дороги. Долго нам говорить не пришлось, ибо наступило время отправки “веселого”. Он знал, что в заключении ни за что и ни про что было очень много политработников ж.д. Он мне поведал, что ему известно об этих неоправданных арестах и что многие, работавшие одновременно со мной в политотделах и профсоюзах дороги, были не только арестованы, но и расстреляны. Мы попрощались, пожелав друг другу всего самого хоро-шего, но на сердце у нас (надо полагать, и у него тоже) стало очень плохо при мысли о творив-шемся Сталиным произволе.
Итак, в пути от Магадана до Москвы не обошлось все гладко и спокойно. Тут и встреча с железнодорожником на ст.Бикин,напомнившая мне прошлое, и совершенные бандитами дебош и ограбление в вагоне,говорившие о настоящем. Как я уже упоминал, 27 февраля 1947 г. я при-ехал в Москву. Погода стояла слякотная, так же было и на душе. Несмотря на это, я прямо с поезда, тут же, у Курского вокзала,зашел в фотографию и запечатлел себя на фото (оно у меня сохранилось). По дороге, на Самотечной площади, была баня, в которой я решил помыться, так как в этом была крайняя необходимость... В бане, насколько мне позволяли средства, привел себя в должный вид. В прачечном отделении оставил все,что было возможно,и отправился на квартиру, где девять лет назад был арестован. Был уже поздний час, когда добрался до дома №...Пятого проезда Марьиной Рощи. Там жила моя семья, но меня никто не ждал. На мой звонок из-за двери послышался вопрос: “Кто там?” Не помню, что я ответил, но тут же услышал все еще через закрытую дверь, как мой сын крикнул своей маме: “Папа приехал”. Выходит, что, оставшись ребенком неполных 9-ти лет, он все же помнил мой голос на протяжении девяти лет. Может быть, поэтому у меня мое прибытие из Колымы ассоциируется с картиной М.Е.Репина “Не ждали”, у которой часами, бывало, простаивал в Третьяковской галерее, когда уже имел возможность жить в Москве. Мои пути-дороги и после возвращения с колымской каторги продолжали быть изрытыми ямами и покрыты терниями еще много-много лет. Попытаюсь и об этих, следующих годах и путях-дорогах записать то, что запомнил и что, по-моему, заслуживает того, чтобы не быть забытым.
В Москве до моего ареста у меня было много друзей и близких товарищей. Теперь, после возвращения с Колымы, многие из них были физически уничтожены теми же опричниками, а многие были еще в тюрьмах и лагерях. Лишь одного из моих старых товарищей - Володю Ходера - я застал тогда в Москве. Несмотря на то, что мы дружили с 1910 г. до моего ареста в 1936 году, он, однако, ни разу не пригласил меня к себе и ни разу не пришел ко мне, настолько он был напуган и так решил себя застраховать. Атмосфера напуганности и страховки в этот черный период сталинщины господствовала и распространялась не только среди бывших друзей репрессированных, но и среди их родственников. Эти факты нельзя забыть, но не об этом дальше будут мои воспоминания. Они начнутся с описания огромного количества проблем, нарочито созданных для препятствий в трудоустройстве бывших заключенных. Может быть, для людей с достатком или таких, которые живут нетрудовыми доходами, эти проблемы не возникали. Для меня они были особенно мучительными, так как без работы у меня не было никаких средств к существованию.
Как это ни парадоксально, но тогда был установлен “порядок”, при котором людям, только что вышедшим из мест заключения, предоставлялось право голосовать на выборах в государственные органы власти - вот какой процентаж голосующих среди населения! (см. описание этого факта выше). Это был тот сталинский стиль, который имеет одно название - “показуха”. Этот же иезуитский стиль всячески ограничивал право получить работу бывшим заключенным. Первым и главным препятствием было запрещение жить там, где жил раньше, до ареста, и где, следовательно, имел свою квартиру. Кроме этого, были и другие препятствия, а именно: предъявляешь выданный взамен паспорта вид на жительство - и тут же работники отдела кадров отказывают в приеме на работу, даже в том случае, когда предприятиям, по их объявлениям, требуется твоя профессия. С таким видом на жительство (считай - волчьим паспортом) очень трудно было снять квартиру (даже комнату или угол) в местах, где разрешалось поселиться. Была совершенно исключена возможность получить квартиру в этих местах в домах, принадлежащим Советам или кооперативам. Создавался заколдованный круг: без работы нет средств для платы (да еще повышенной у частников) за квартиру, если такую все же найдешь. Все эти “мелочи” настолько влияли на вышедших из тюрем и лагерей, что подчас они не рады были такой свободе.
В таком положении очутился и я по приезде из Колымы. Вынужденный произволом, я поселился в поселке Петушки Владимирской области. Мои мытарства этого порядка, т.е. квартирные, отпали, но на работу поступить никак не мог. Выручил случай. В одной из газет я прочитал, что начальником одного из главных управлений Министерства текстильной промышленности была тов.Хазан Д.М. Этого товарища я знал по совместной работе в 1921 году в ВЦСПС. В этом поселке была фабрика “Катушка”, которая входила в состав предприятий указанного Министерства. Это обстоятельство толкнуло меня обратиться к тов.Хазан с просьбой посодействовать мне в приеме на работу на эту фабрику. Токарь по металлу нужен был фабрике, но меня не принимали из-за того, что, по словам механика, начальник отдела кадров не хотел брать человека с таким прошлым, как у меня. В качестве открытой мотивировки выдвигалось то, что на фабрике нет свободных продовольственных карточек. (Тогда снабжение населения продовольствием производилось по нормам.) Что мотив этот выдуман, подтвердилось через пару дней после того, как я посетил тов.Хазан в ее управлении. Она меня узнала и не отказалась помочь мне. Выслушав меня, она тут же позвонила начальнику главка, в чьем ведении была фабрика, и попросила его обеспечить, чтобы я был принят на работу. Хочу от всего сердца сказать ей свое искреннее спасибо за то, что она внимательно отнеслась к моей просьбе, и за то, что, несмотря на царившую тогда боязнь даже элементарно по-человечески относиться к репрессированным сталинским режимом, она все же проявила довольно товарищеское внимание ко мне, репрессированному. В тот же день начальник главка выполнил просьбу тов.Хазан, а назавтра я был уже оформлен как токарь на фабрике. Этот факт может показаться кое-кому незначительным, но, по-моему, он тоже позволяет представить себе, насколько кошмарно было положение людей с клеймом, наложенным Сталиным, которые хотели просто трудоустроиться на самой рядовой работе.
Работая на этой фабрике, я все время ощущал, что администрация фабрики относится ко мне подчеркнуто враждебно.Частые вызовы меня в районное отделение ГПУ, чтобы узнать, бываю ли я в Москве, не было секретом для руководителей фабрики. Что касается отношения ко мне рабочих цеха, в котором я работал, то они не сторонились меня, и я не чувствовал себя изолированным. Не могу припомнить ни одного признака, свидетельствовавшего о том, что рабочие видели в моем лице какого-нибудь преступника против Советской власти. Мне тогда было уже за пятьдесят, и молодые рабочие цеха всячески показывали мне свое уважение как старому рабочему, который хотя и уступал им в быстроте, но выполнял любые токарные работы. Помню, какое удивление проявили рабочие, узнав, что я подписался на заем на сумму моего полного месячного заработка. Я был тогда уверен (и теперь считаю это правильным), что необходимо помочь стране в деле восстановления хозяйства после тяжелой войны. К сожалению, такую необходимость не осознали многие из рабочих и работниц, и размер их подписки на заем не превышал 50% заработка. По завершении подписки на заем администрация фабрики заметно изменила свою настороженность ко мне. Был даже случай, когда секретарь парткома, придя на собрание в механический цех, в своей речи счел нужным назвать меня в качестве примера сознательного отношения к призывам о подписке на заем. Не могу скрыть, что это выступление секретаря охладило отношение ко мне рабочих, что, конечно, огорчило меня.
К этому времени относится принятое мною решение писать письмо в ЦК ВКП(б) о восстановлении меня членом партии. Считаю нужным написать об этом письме, так как оно оставило заметный след в моей памяти и печальный знак на моих путях-дорогах, лежавших передо мной и после “освобождения” из колымских лагерей. Письмо я адресовал в Центральный Коми-тет ВКП(б) на имя А.А.Жданова (тогдашний секретарь ЦК). Я писал, что столь длительное необоснованное пребывание в заключении не изменило мою безграничную преданность больше-вистской ленинской партии, с которой связана вся моя сознательная жизнь. Я просил рассмотреть мою просьбу по существу и возвратить меня в ряды партии. Я объяснил, как мог, что обращаюсь непосредственно в ЦК потому, что никакая другая партийная инстанция не решится принять решение по существу моей просьбы. Не место здесь полностью повторять все это письмо (оно, вероятно, сохранилось в архиве МГК). Тот факт, что меня спустя какое-то время вы-звали в Московскую городскую контрольную комиссию при МГК, свидетельствовал о том, что не ЦК, куда я обратился,будет принимать решение по моему заявлению, а другая инстанция. Хочу все же отметить, что прием, оказанный мне председателем городской Контрольной Комиссии тов.Дмитриевым, очень меня обрадовал. Отлично помню его слова, которые он мне сказал при прощании: “Ну, тов.Величко, все трудности уже позади”. Но, увы, как я и предполагал, даже Московский городской партийный комитет не мог решить мой вопрос по существу.
Спустя некоторое время меня вызвали на заседание партколлегии МГК (хотя в это время я жил не в Москве, а во Владимирской области). Все это говорило о том, что заявление мое было принято, что называется. к формальному рассмотрению, а по существу не было рассмотрено (это мог сделать только ЦК), и потому получилось в результате, что “гора родила мышь”. Именно такое заключение напрашивалось, когда меня в третий раз вызвали (на этот раз в МГК) и дали прочесть решение за подписью секретаря горкома Фирюбина, которое гласило: “Отклонить”. Что значит в данном случае “отклонить”? Ведь мое заявление было не претензией, которую можно отклонить. Мое заявление было просьбой восстановить меня в рядах партии, из которой меня исключили, кстати сказать, без соблюдения существовавшего устава. Лаконичное “отклонить” даже не звучало как аргументированный мотив.
Глава 28
Осенью 1948 года мне стало известно, что неполноправным людям, как я, не возбраняется жить в городе Владимире. Для меня, горожанина, перспектива жить не в поселке, а в городе, была более приемлема. Переехав во Владимир, я вскоре убедился, что жизнь моя не многим изменилась, но все же ощущалась какая-то перемена. После работы в межобластных мастерских по ремонту тракторов, куда я поступил токарем, я мог отправиться в библиотеку почитать. Можно было и театр посетить. Но самое главное, что не все встречавшиеся мне люди видели во мне ссыльного. В Петушках все окружающее население знало наперечет нас, вынуж-денных жить “за 120 км” от Москвы.
Недолго продолжалась моя жизнь во Владимире. “Второй тур” необоснованных репрессий был в полном разгаре. Жертвы этого “тура” жили в разных районах Владимирской области. Это позволило ставленникам Берия в этой области очень быстро водворить “врагов народа” в тюрьмы. 17 января 1949 г. и я очутился в печально известной Владимирской тюрьме.
День 17 января, понедельник, был выходным для предприятия, на котором я работал. Утром, ничего не зная о происходящих арестах, я начал с того, что отправился на рынок для закупки себе продуктов. В рабочие дни мне это не удавалось сделать, ибо к 7 или 8 часам надо было уже стоять у станка. Купленные продукты я вручал хозяйке квартиры, в которой занимал угол. За дополнительную плату она аккуратно и добротно готовила мне еду. Такой порядок я завел с тех пор, как поселился во Владимире у граждан Мартыновых на улице Мира. Хозяева не могли не знать, что я из ранее репрессированных (это было видно из моего вида на жительство), но относились ко мне предельно хорошо и нередко звали к себе чаевничать. В этот злосчастный день 17 января все было как и в предыдущие выходные дни, но вечером, когда я сидел у себя, в дверь постучали, и на пороге комнаты, не дожидаясь моего разрешения, появились двое в форме работников КГБ в сопровождении хозяина квартиры.Эти незваные гости застали меня за чтением. (Арест 30 апреля 1938 года тоже застал меня за чтением.) Они сразу поинтересовались, что я читаю, и увидели, что это книга М.Горького “Жизнь Клима Самгина”. Должно быть, она не вызвала у них тревоги. Но о чтении уже нечего было думать. Они предъявили мне ордер на обыск и арест. Я обратил внимание на то, что ордер выписан 15 января, и удивился, почему два дня мне позволили быть на свободе. Тщательный обыск не обнаружил ничего предосудительного. Закончив всю эту отвратительную процедуру, они предложили мне одеться, взять с собой кое-что из вещей и следовать за ними. Я набросил на себя рабочую телогрейку, обулся в валенки, привезенные еще с Колымы, и больше ничего не захотел взять с собой, ибо уже знал, что такое сталинская тюрьма. На дворе ожидал легковой автомобиль, и спустя примерно час я уже был во Владимирской тюрьме. Этот арест не был вызван тем, что я переехал из Петушков во Владимир, ибо там, в тюрьме, уже были такие, кто сразу после лагерей обосновался во Владимире. Пословица, что на миру и смерть красна, меня не утешила. Не до пословиц было.
До первого вызова на допрос прошло, вероятно, денька два-три. В это “свободное” время я думал о том, какова была причина отсрочки ареста на два дня, и пришел к выводу, что причина должна быть следующая. 16 января происходили во Владимире выборы судей, и я с бюллетенем голосовал тогда за выставленных кандидатов. Я уже писал, что имел право участвовать в выборах органов власти. Итак, вчера еще “полноправный” гражданин, спустя два года был опять водворен в тюрьму ни за что и ни про что, как и первый раз, в 1938 году.
Первый допрос во Владимирской тюрьме вел тот же сотрудник НКВД, что меня арестовывал. Этот мой истязатель, следователь Головкин, начал свой допрос с того, что потребовал , чтобы я рассказал о своей контрреволюционной деятельности, какую я, по его данным, проводил на Колыме, а также во Владимирской области, с того времени, как проживаю на ее территории. Со стороны старшего лейтенанта службы ведомства изменника Берия это было для меня повторением такой же наглости следователя Соколова в 1938 году в Бутырской тюрьме, когда это ведомство возглавлял ничтожество Ежов. Как тогда, в 1938 году, так и в 1949 году я ответил на это требование возмущением. Головкин знал, что и при тех методах допроса от меня не добились желаемых результатов, однако он думал, что за прошедшие одиннадцать лет я перестал быть большевиком. Он лишил меня права пользоваться деньгами для закупки в тюремном ларьке продуктов, продававшихся арестантам. Это он умудрился сделать так: не передал мои деньги в тюремную бухгалтерию, а клал их у себя на стол, за которым сидел, когда учинял мне допросы. Стуча кулаком по столу, он угрожал мне таким “ужасом”, что не получу ни одной сушки,ни одной папиросы,“пока не расскажу о своей контрреволюционной деятельности”. Такая “угроза” могла исходить только от политически бездарного человека. Не знаю, как это согласуется с правовыми нормами,установленными бывшим меньшевиком псом Вышинским. Мо-жет ли производивший арест быть и следователем? Головкин был для меня в этих двух ролях.
Комментарий публикатора Все-таки трудно удержаться от размышлений о том, почему дядя Сема постоянно обволакивает в пустые отштампованные догмы выразительнейшие картинки реальной жизни. Какое значение имел меньшевизм “пса” Вышинского, когда страной правила шайка рыл с идеально большевистской биографией? Испытав на своей шее всю безмерность произвола, какой смысл было сетовать, в связи с апелляцией к Жданову, на нарушение процессуальных норм устава, регламентирующих порядок исключения из партии людей из рабочего “сословия”? А этот немыслимый снобизм - возмущенно цепляться к словам приятеля по лагерю, честно сказавшего, что он уже “привык” к каторжной жизни? Или с пафосом негодовать, что бывшей “крупной” партработнице в заключении досталось “амплуа домработницы”, называя это “мерзостью, творимой сталинцами” (когда на деле это было редкостной удачей для нее)? Или еще - доблестно подписавшись на заем в размере целого месячного оклада, сожалеть, что остальные не поступают так же? Хорошо, что хоть отметил появившуюся у рабочих-коллег неприязнь к себе из-за этого “сознательного” поведения “большевика” (не размышляя, впрочем, по этому поводу о “рабочей солидарности”). И еще - аккуратно подчеркивать, что такой-то из репрессированных “реабилитирован”, как будто если “не реабилитирован”, то, в отличие от самого автора, репрессирован “обоснованно” ! Дядя Сема был достаточно умен, зряч и чуток, чтобы не подозревать ,что уродства, в которые была ввергнута страна, породил именно большевизм. Но он был окостеневшей “плотью” его рассудка. 20-й съезд, в духе коего дядя Сема тщательно обмусоливает любые факты, не только дал ему на склоне лет разные материальные поблажки, но и оказался единственной соломинкой, за которую можно было ухватиться, чтобы удержаться в своей блажной гордыне. А коли так, оставалось слепо подпевать партийным трактовкам. Этот диссонанс, постоянное разбавление реально пережитого правоверным идеологическим пустомельством по его поводу, не только раздражает, но и вызывает жалость, потому что альтернативой было бы смиренное признание банкротства своего политического фанатизма, но это было бы равносильно самоубийству автора данных воспоминаний. (Мысль о возможности своего самоубийства в вопросительной форме - не выброситься ли ему из окна - дядя Сема высказал мне на ушко, когда я пришел навестить его в 60-й больни-це. Но он через 5 дней умер, так что эта мысль возникла, конечно, из-за болей, а не разочарования в своем “кредо”: когда в ответ на нее я поздравил его с состоявшимся только что 56-летием Октября, он явно обрадовался.)
При аресте Головкин забрал адресованные мне письма. Кроме того, он забрал и мою записную книжку, где я записывал шахматные ходы, мои и сына, с которым играл по переписке (сын мой жил в Москве). И вот на одном из допросов следователь пристал ко мне с требованием расшифровать, что обозначали эти буквы и цифры. Вся остальная переписка, которую он проштудировал, не вызвала у него никаких вопросов, ибо все было там ясно, а вот записи, которые были бы ясны для мало-мальски грамотного в шахматах человека, он принял за шифр контрреволюционной переписки. Из-за нервного расстройства, опасаясь, что арестуют и сына, я настолько разволновался и возмутился, что начал кричать. На мой крик появился начальник следственного отдела. На его вопрос,почему такой крик, я ответил, что из-за невежественности следователя может быть допущена самая возмутительная несправедливость. Полагаю, что начальник (он был в полковничьих погонах) знал, как записывают шахматные ходы.Он дал понять следователю, что тот переборщил в своей подозрительности, приняв эти записи за шифр в моей переписке с сыном. Должно быть, этот начальник следственного отдела все же понимал, что есть какие-то границы для всяких гонений и подозрений “шибко бдительных” стражей в отноше-нии советских людей.
После этого злосчастного допроса, неприятного и для следователя, меня не вызывали в течение целого месяца. Во время этого перерыва я все пристальнее приглядывался к своим сокамерникам. Запомнились не все (их ведь было так много!), но о запомнившихся кое-что можно рассказать. Вот тов.Брук (к сожалению, забыл его имя и отчество). Он был значительно старше меня (мне тогда было 53 года), тоже арестован по “второму туру” при Сталине. В царское время был осужден на каторгу. Этот “контрик” в своих беседах всячески доказывал, что капитализму пришел конец и что в течение второй половины двадцатого века капиталистический строй будет стерт с лица нашей планеты. Никто из принимавших участие в этих беседах не усомнился, что так и будет, хотя слугами Берия все мы были зачислены во “враги народа” и сидели в тюремной камере, до того серой, словно она была осыпана пеплом.
Среди участников наших бесед был бывший помощник Вышинского. Фамилия его Ширвиндт. Он, как правило, молчал, но иногда бросал реплики, в которых выражалось его скептическое мнение по поводу предсказания Брука. По камере Владимирской тюрьмы запомнился мне арестант по фамилии Гринберг или Гольдберг. Он был инженером-химиком и до ареста работал на Владимирском химическом заводе на какой-то большой должности. С этого завода он был командирован правительством СССР в Италию по делам химической промышленности. Когда я попал в камеру,этот инженер был уже “старожилом” в ней.По его рассказам, на допросах от него требовали признания в том, что он получил указания Ватикана вредить в химической промышленности СССР. Мы, слушавшие старого большевика, инженера-химика, знали цену таким нелепым обвинениям и поэтому не удивлялись и этой нелепости, но самое забавное было в том, что ему инкриминировалось, будто сам Папа римский дал ему аудиенцию. Это вызвало у нас улыбки (громко смеяться нельзя было).
Кроме перечисленных, я запомнил еще одного сокамерника - Волкова Василия Михайловича. Он рассказал нам, что в первые дни его второго ареста он чуть не сошел с ума. По его словам, для этого была следующая причина. При приводе его в тюрьму произвели изъятие из его карманов. В них оказался бюллетень для выборов судей. Таким образом, бюллетень не был использован 16-го января, так как на этот день (воскресенье) он уехал в Москву к своим дочерям. Волков В.М. посчитал, что, помимо всего прочего, ему еще влетит и за поездку в Москву, и за то, что не пришел голосовать. Все вместе взятое привело его в ненормальное состояние, а вдобавок в первый же день его посадили в одиночную камеру. Мы все,слушавшие его, конечно, посочувствовали ему, но вместе с ним отметили, что все это кончилось легким испугом.
После почти месячного “отдыха” началось продолжение допросов. Следователь начал с того, что спросил меня: кто присутствовал в бараке на Усть-Утиной в 1942 г. при разговоре о Сталине (см.выше стр... этих мемуаров). По правде сказать, я опешил, услыхав такой вопрос. По форме, в которой был задан вопрос, можно было заключить, что “мой” следователь обвиняет меня в том, что я был инициатором разговора о Сталине. Это очень грозное обвинение потерпело такое же фиаско, как и все другие. В мае 1949 г. все допросы кончились. Как и в 1938 году, органы Берия-Сталина не добились от меня никаких желательных для них результатов. В ожидании“приговора”мне пришлось еще в этой знаменитой “Владимирке” испробовать карцер. Может быть, и впрямь верна поговорка: “Нет того арестанта, кто в карцере не сидел”. Я очутился в карцере за то, что во время прогулки прислонился к щели забора, отделявшей другой “дворик”. Через щель мелькали арестанты, которых я хотел разглядеть. Через “волчек” это увидел конвой. Он сразу прервал нашу прогулку, а обо мне доложил корпусному, который и посадил меня в карцер на трое суток. Кроме этой неприятности, на моей совести осталась горечь от того, что остальные мои товарищи по камере вынуждены были на несколько минут меньше дышать свежим воздухом (всего прогулка длилась 15 минут). Да простят они меня за мое любопытство.
Не раньше середины июня меня из камеры конвоем привели в тюремный служебный кабинет к человеку, одетому в полковничью форму. Он предложил мне подписать бумагу, на которой было напечатано решение Особого совещания СССР от 25 мая 1949 года, согласно которому меня отправляют на бессрочное поселение в Красноярский край (считай - бывший Туруханский). Как только мне стало известно, что водворен в этот край пурги, я вспомнил слова В.Г.Короленко, когда-то читанные мною: “Навсегда в этом гробу, навсегда!” Нет надобности распространяться, что подпись приговоренного,а точнее “порешенного”, требуется лишь по формальным соображениям, по существу же она не нужна. Я не стал подписывать и только этим выявил свой протест. Надо отметить, что полковник не выразил никакого возмущения тем, что я не захотел расписаться на предъявленном мне документе. Я воспользовался его спокойствием и попросил разрешить мне получить вещи, находившиеся на квартире, откуда меня увели в тюрьму. Деликатности полковника хватило только на то, чтобы спокойно сказать, что через пять дней меня привезут на место ссылки, и вещи прибудут туда же к этому времени. Ничто из обещанного полковником не оказалось выполненным. Пять дней превратились в пять недель этапа через ряд тюрем, а вещи свои я получил через год и девять месяцев. Лживость и издевательства оказались свойственны и этому деликатному полковнику.
Глава 29
Через несколько дней после того, как меня “осчастливили” решением Особого совещания, меня повели в тюремную баню. Как правило, арестантов, если они не содержатся в одиночных камерах, водили в баню всех вместе. Меня же повели одного, хотя из карцера я уже был возвращен в общую камеру. Нетрудно было догадаться, что за баней последует этап. Так и получилось в действительности. По окончании мытья, к моему удивлению, в помещении, где одеваются, кроме арестантского белья, мне выдали сверток с сушками и папиросами. Это “угощение” куплено было в тюремном ларьке за часть денег, которые были у меня изъяты все тем же Головкиным. Теперь уже не было сомнений в том, что отправляюсь в этап. Подвели меня к какому-то окошку, из которого высунулась голова и предложила мне расписаться, что получил “ларек” и квитанцию на оставшуюся сумму своих денег. Спустя какой-нибудь час я оказался в печально знаменитом “столыпинском” ж.д.вагоне. Конвой меня втолкнул в одно из “купе”, заперев за мной дверь. В этом “купе” на нижних нарах уже поместилось по пяти человек. Я оказался четвертым на самой верхней полке. Духота была невыносимая. Публика - явная шпана. Эта обстановка ухудшилась тем, что несколько раз по дороге в это переполненное купе впихивали новых арестантов. На третьи сутки напихано было уже столько, что многие не имели где притулиться и вынуждены были стоять свечками.
От Владимирской тюрьмы до тюрьмы в Горьком нас везли трое суток по ужасной июльской жаре. В горьковской тюрьме мы все почувствовали огромное облегчение, так как хотя очутились в камере с цементным полом, но достаточно большой, чтобы каждый мог расположить-ся на этом полу (без подстилки) и растянуться во весь рост. Позволю себе утверждать, что “отдохновение” в этой тюремной камере чувствовали все мои спутники. Это было ясно видно по их лицам. Не знаю, как другие арестанты, но мне впервые довелось встретить, чтобы в тюрьме кормили такой вкусной пищей из пшена. Все эти “удовольствия” кончились через сутки, когда нас опять погнали в этап.
Не забуду молодого арестанта, оказавшегося в моей пятерке, которыми строились арестанты. По выходе из ворот тюрьмы этот молодой сосед обратился ко мне с вопросом: “Батя, долго еще будет править страной этот усач, всеми своими повадками похожий на чистильщика сапог?” Я догадался,кого он имеет в виду, и ответил, что чистильщики сапог, как правило, люди скромные, а тот,кого он обозначил словом “усач”, во-первых, не скромный человек, а во-вторых, он своими действиями более похож на ненасытного шакала, и оспины на его лице напоминают пятна этого четвероногого хищника. Так я отреагировал на этот вопрос. Я тогда не знал, что сам Сталин проводил параллель между собой и царем Александром 1-м. Об этом можно прочесть в воспоминаниях В.Бережкова (журнал “Новое время” № 46 за 1972 г.). Во время движения от тюрьмы до ж.д.станции конвой принял еще каких-то заключенных. Поэтому шеренги перестроились, и этот мой сосед оказался в другой “пятерке” и в другой теплушке. Больше я не встречал того молодого арестанта, думавшего по-своему.
Нас погрузили в товарные вагоны, где было значительно свободнее, чем в столыпинском. Следуя до Кировской, т.е. Вятской, тюрьмы в товарном вагоне, мы были избавлены от тяжелых мук, связанных с пользованием уборной, ибо параша стояла тут же. Не то было в столыпинских. Там в каждом отдельном случае и каждому отдельному арестанту надо было дожидаться, когда конвоир соизволит отозваться на стук, чтобы отвести в уборную вагона. Я до сих пор испытываю ужас при воспоминании об этом ожидании.
В Вятскую тюрьму нас привезли что-то между 15 и 20 июля. Здесь камеры напоминали перегороженные помещения деревянного барака. Режим также был не особенно похож на тюремный. Поверка арестантов проводилась на тюремном дворе, и это, конечно, устраивало заключенных,так как к прогулочным минутам добавлялось время пребывания на воздухе.На одной из таких поверок я узнал, что умер болгарский коммунист т.Георгий Димитров. Это было 20 июля 1949 г. В памяти у меня всплыл тов.Димитров Ангел Иванович, о котором я уже упоминал, рассказывая о периоде пребывания на Колыме. Я поделился этим воспоминанием с новыми моими товарищами по этапу - ленинградцами Натаном Яковлевичем Гринфельдом и Петром Николаевичем Николаевым.
Хочу еще отметить, что из этой тюрьмы к ж.д.составу нас вели по окраине города, и все же вдоль всей дороги на тротуарах в большом количестве стояли жители, провожая нас очень грустными и озадаченными взглядами. Они не имели возможности передать нам калачи или что-нибудь в этом роде,хотя мы нуждались в них не меньше, чем арестанты царей. “Распорядок”, установленный конвоем, был значительно жестче, чем при следовании на Колыму. Тогда не было случая, чтобы арестантов лишили воды. На этапе же из Кировской тюрьмы, да еще при очень жаркой погоде, проводивший поверку конвоир опрокинул стоявшую бочку с водой и нагло добавил, что всегда будет делать так, если кто-либо из нас при переходе с одной стороны вагона на другую не будет четко печатать шаги. Кроме честного солдатского шага, производивший проверку (обыкновенно старший конвоир) требовал, чтобы мимо него проходили с поднятой головой. Не могли мы молчать и потребовали начальника конвоя. Придя в вагон и выслушав старосту, он подтвердил указание конвоиров, но все-таки тут же приказал, чтобы воду нам дали. Уходя, он грозно предупредил всех нас, что в случае повторения жалобы мы будем не только лишены воды, но и посажены все на карцерский режим. Мы не сомневались, что ведомство Берия снабдило его такими правами. После такого этапа мы все облегченно вздохнули, когда спустя неделю состав остановился на какой-то станции близ Красноярска и нас погнали в красноярскую пересыльную тюрьму. Это было в ранние утренние часы. Несмотря на летнее время, погода была довольно хмурая. Еще более хмуро оказалось на тюремном дворе, обнесенном очень высокими стенами.
Мысли мои, как бы ярки они ни были для меня, наверняка гаснут из-за того, что включены в немощную словесную оболочку. Единственное оправдание вижу в том, что я не писатель, точнее - не художник слова. “Писательство не легкое дело” (М.Горький).
Глава 30
В Красноярской пересыльной тюрьме этапируемые арестанты не задерживались. Видимо, так “планировалось”, потому что партии их следовали одна за другой. Край Красноярский (бывший Туруханский) “заселялся” ссыльными из всей страны. В камере, куда нас загнали, были люди, которых привозили самолетом и даже с Колымы. За сутки пребывания в этой камере я познакомился с несколькими ссыльными, привезенными из Норильска, т.е. из местности, входящей в состав этого же края. “Оперативность” была полная, и аппарат по изъятию “врагов народа” работал на всю мощь. Не преувеличу, если определю количество очутившихся в одной только “моей” камере в 400-500 человек. Несмотря на такое множество людей, можно было найти местечко, чтобы поспать. Мне не пришлось заботиться об этом по двум причинам. Во-первых, мои два товарища, Н.Я.Гринфельд и П.Н. Николаев,сохранили на нарах между собой место для меня, а во-вторых, я предпочел всю ночь просидеть на полу, играя в шахматы. Мы с моим партнером настолько увлеклись, что не заметили, как утром начали раздавать пайки хлеба, и не услышали команду, чтобы строиться в этап (шум сотен людей, царивший в этой камере, мог все заглушить). Мы поднялись от шахмат лишь после того, как мой друг Петр Николаевич подошел ко мне и крикнул: “Семен, в этап собирают”.
О красноярской тюрьме следует еще упомянуть, что там я впервые официально услышал об ограничениях, которым подвергаются ссыльные. Тюремное начальство собрало десятки арестантов, подлежащих этапу, и заявило, что нас отправляют в различные районы края, где мы сумеем работать как ссыльно-поселенцы в любой отрасли, за исключением работы на “идеологическом” фронте. Такое ограничение меня мало тревожило, ибо я мечтал найти работу токаря по металлу, но понял. что этим исключением подчеркивают ту бесправность, на которую нас обрекают. На этом же “прощальном” собрании тюремное начальство предложило желающим быть отправленными в Норильск. Достаточно было заявить об этом желании, и оно будет удовлетворено. Я не был в числе тех, кто решил “поселиться” в Норильске, и был включен в этап, направляемый в район, название которого забыл, пароходом по Енисею. Мы погрузились под командой единственного конвоира. Нас удивило такое отсутствие “бдительности”, а еще больше то, что на пароходе вместе с нами были и вольные люди. У нас, этапников, плацкартных мест не было, и устроились как кто сумел.
Все нас удивляло: и отсутствие многочисленного конвоя, и отсутствие поверки с обяза-тельным счетом по “пятеркам”, и возможность общаться с людьми не заключенными. Мы даже могли ходить по всем палубам парохода, т.е. и там, где помещались плацкартные каюты. Если прибавить. что была летняя пора, то эта поездка могла бы казаться прогулочной. Но вот факт, говоривший, что это была лишь кажущаяся прогулка. На вторые или третьи сутки нашего следования к назначенному месту мы узнали, что из Красноярска поступило распоряжение везти нас в другой район. Вот и получилось, что нас переадресовали, как какой-то груз, ошибочно направленный в один адрес,но переправленный в другой адрес. Этим, вторым адресом оказался Ярцевский район, севернее Красноярска на 700 километров.Эти сотни километров мы преодолели без особых происшествий. Каждый из нас проводил время как хотел. Не помню, были ли за дни следования до места приземления поверки, но на пристанях наш конвоир был на своем посту.
У села Ярцево тогда еще не было пристани, но конвоир принял меры, чтобы нас выгрузили, и, тщательно проверив, совпадает ли количество выгруженных с количеством дел, имевшихся у него, сопроводил в районное отделение МГБ. Впервые я шел этапом, в котором были и женщины. Путь от берега Енисея до дома, в котором помещалось отделение МГБ, был не особенно длинным, но идти надо было в гору, и мы порядком утомились. Во дворе районного отделения мы все расположились на земле на отдых, но сколько здесь было страдания и горя на лицах “отдыхавших” ! В село Ярцево, т.е. в распоряжение Ярцевского отделения МГБ, нас поступило человек девяносто, которых начали “трудоустраивать”. В первый же день мы узнали, что нас окрестили именем “второэтапники”.Это значило, что до нас сюда были пригнаны люди, которые считались первоэтапниками. Все мы, и первого, и второго, а затем третьего этапа, именовались общим названием “повторники”. Не помню, есть ли у меня уже такое слово в моих записках. Оно означает, что мы были арестованы вторично после того, как каждый отсидел столько, сколько захотело ведомство Сталина-Берия. Вот этих-то”повторников” органы МГБ “призрели” под видом, что ссыльные будут трудоустраиваться сами, но где и как - все же укажут органы, памятуя, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из этих людей работал на участках, связанных с идеологическим фронтом.
Большинству из моих соэтапников “посчастливилось” остаться в районном центре Ярцево. Меня же в числе 12 человек это “счастье” обошло. К концу первого дня ярцевской остановки во двор, где мы лежали на земле (было начало августа), явился человек, по виду яркий представитель таежных мест, и в сопровождении сотрудника районного центра МГБ с погонами лейтенанта отобрал столько, сколько ему было нужно людей, и предложил следовать за ним. Мы не знали, хорошо это или плохо, но, не раздумывая, отправились на берег Енисея, где стояла лодка, в которой мы с этим таежником поплыли вниз по Енисею. На этот раз путешествие длилось недолго, но принявший нас успел рассказать, куда плывем и кто он сам. Нам, ссыльным, достаточно было знать, что мы кому-то отданы, а кому именно - было безразлично. Он сообщил, что является председателем колхоза села Кривляк, где мы будем жить и работать. Не помню,как я воспринял это сообщение. Ведь мне ни разу не довелось работать в сельском хозяйстве, но дружелюбный прием этого председателя (по фамилии Мальцев) как-то успокаивал.
К вечеру того же дня, как нас привезли в Ярцево, мы приземлились в Кривляке. Было бы хорошо описать это село, но сделать это я не сумею. Помню лишь, что оно расположено на очень большой высоте над берегом Енисея, и недалеко от сельских двориков большой лесной массив.Население было немногочисленное, может быть, человек 100-150, и состояло из ссыльных - из Забайкалья (русских), из Литвы (литовцев), из Поволжья (немцев).Все они были в колхозе, который влачил жалкое существование.Выдавали колхозникам по 400-500 гр.хлеба и литр обрата в день. К этим“счастливцам” прибавилось и наше пополнение,которое я считаю нужным перечислить. Николаев Петр Николаевич, ленинградец 1882 или 1884 года рождения, по профессии типограф, участник трех революций, член партии с 1904 г. (умер по возвращении в Ленинград в 1955 г., после реабилитации и восстановлении в членах партии). Максимов Федор Тимофеевич, по профессии бухгалтер. Умер в Москве в 1956 или 1957 г. в возрасте 70-72 лет. Шеникова Анна Ивановна, текстильщица из Ярославля или Иваново-Вознесенска. До ареста и ссылки была на партийной работе в обкоме. Родилась в 1896-98 гг. Пляцкий Семен Михайлович, ленинградец, 1895-97 гг рожд. Титова Ксения Петровна, 1902 г.рожд., до ареста и ссылки жила в Сибири, была на партийной работе. Гамшиевич Исидор. Во время Гражданской войны в Испании работал там переводчи-ком, был награжден орденом Красного Знамени. В настоящее время живет в Москве. Фамилии двух людей не помню. Один, из Днепропетровска, запомнился мне лишь тем, что стал водовозом и женился на немке из Поволжья. Вторая - молодая женщина из бытовичек, стала женой старика Николаева П.Н. Трех человек никак не припомню, ни по фамилии, ни по каким-либо другим признакам. Вот все 12 человек (я 12-й),которые были привезены в Кривляк влачить жалкое существование.
Сезон сельскохозяйственных работ был в полном разгаре, и председатель колхоза расставил этих людей по своему усмотрению. Не все они “визжали косами”, как образно назвал В.Г.Короленко уборку сена. Меня назначили подпаском к пастуху, которому было лет 17-18. Я не возражал, так как мне казалось, что это наиболее подходящая для меня работа.Признаюсь, “пост”, полученный мною на 55-м году жизни, мне даже нравился. Хотя нрав подопечной скотины мне не был известен, но мой наставник Эдуард, хоть и молодой человек, знал толк в пастушьем деле, и под его руководством я справлялся со своими обязанностями подпаска. Но разве была какая-нибудь польза для нашей страны в том, что ни в чем не виновных людей поставили в условия абсолютного бесправия и уготовили на ничем не оправданные страдания. Все это делалось не без ведома Сталина, который обнажил и направил меч против рабочего класса и его партии. По существу, об этом было сказано на ХХII съезде КПСС, в том месте отчетного доклада, где говорится, что руководство Сталина отбросило развитие страны на ряд десятилетий.
Почти полугодовое пребывание в Кривляке не изобилует особыми событиями, о которых следовало бы писать,но об одном мне хочется сказать хоть коротко. Работая подпаском, я в члены колхоза не вступил. Надо признать, что никто вступать в колхоз нас не обязывал. Так было в Кривляке. Я посчитал, что могу работать как наемная рабочая сила, но должен получать положенную за эту работу заработную плату. Председатель колхоза согласился с моим мнением и предложил мне написать проект трудового соглашения, на основании которого он имел бы право платить мне деньгами.Мы договорились с ним о размере такой оплаты (помнится, 8 руб. в день, это в 1950 г. была очень низкая оплата). Долго держал у себя председатель колхоза составленный мною проект, а в ответ на мои каждодневные напоминания о необходимости подписать договор все ссылался на то, что ему некогда и что он должен проконсультироваться в районном отделении МГБ. (В Кривляке не было даже постоянного коменданта этого ведомства, а приезжал таковой лишь время от времени для производства отметок на наших документах, т.е. чтобы проверить, не убежал ли кто.)
Наконец, председатель колхоза сказал мне, что договор со мной заключать не станет, так как начальство, т.е. МГБ, запрещает это делать. Ничего не вышло из моего желания быть наемным подпаском, и, не имея никаких средств для существования, я продолжал трудиться на разных работах. Однажды вся работа на току была приостановлена из-за поломки металлического штыря (пальца) в приводе, вращавшемся двумя лошадьми. Эта авария вызвала переполох. Поломка была пустяковая, но в Кривляке не было другого штыря, чтобы заменить сломанный. Я сказал председателю,что мог бы выточить нужный штырь,будь токарный станок, и посоветовал ему узнать о наличии такой возможности в Ярцеве. Он принял мой совет и выяснил. что в Ярцеве, в Туруханском леспромхозе, имеется токарный станок. Получив согласие директора леспромхоза, бригадир колхоза захватил меня, и мы отправились в Ярцево.
Моему взору предстало “механическое оборудование”, которое ярцевцы посчитали токарным станком. На самом деле это было нечто невообразимо допотопное. Но я все же решил, что сумею на нем выточить нужную несложную деталь для привода. Не стану описывать муки, которые претерпел бригадир, крутя руками шпиндель этого “станка”. Мучения, которые испытывал я, вращая вручную то, что называется супортом на том механизме, были ничтожны в сравнении с теми, что выпали на долю бригадира тов.Путинцева. Он не выдержал их и потребовал (по телефону) от председателя прислать в помощь 3-4 человек, которые будут крутить этот допотопный токарный станок поочередно. После всех этих перипетий палец-штырь был мною выточен, и привод на Кривлякском колхозном току заработал. Этот “триумф” был настолько велик, что начальство колхоза начало относиться ко мне очень внимательно и даже выделило мне 5 кг телятины. Производственные результаты, достигнутые на этом станке, имели для меня впоследствии еще более важное значение, но об этом скажу немного позже, а сейчас вернусь к моему житью-бытью в Кривляке.
Глава 31
Для очередной отметки ссыльных, проживавших в Кривляке, приехал сам начальник районного отделения МГБ (раньше я уже писал, что в этом селе не было никаких представителей МГБ, которые могли бы выполнять эту “ответственную” работу, установленную ведомством Берия). Когда я пришел отметить свое удостоверение личности ссыльного, начальник встретил меня грозным окриком: “Какой такой трудовой договор предлагаете заключить с Вами? Вы забыли, что находитесь в ссылке? И никакой Вы не специалист, чтобы договоры заключать”. Прежде чем вступить в разговор о трудовом договоре, я вручил начальнику мое удостоверение для отметки, но он не стал отмечать, а держал мой “паспорт” в руке, продолжая разносить меня за желание работать по договору и называя это бунтарством. Я ему ответил, что никаким бунтарством я не занимаюсь, и хотя верно, я не специалист, а простой подпасок, но знаю, что трудовое соглашение и подпаску заключать не запрещается. Если по правилам, установленным органами МГБ, такой запрет наложен, то МГБ, в чьем ведении я нахожусь, должен трудоустроить меня. Не помню, что ответил начальник на эти мои слова, но когда я упомянул, что в царские времена ссыльным для существования выдавали какие-то суммы денег, начальник вспылил и, сделав отметку на моем удостоверении, предложил мне явиться в районный центр Ярцево, где мы поговорим о моем трудоустройстве. Можно было по-разному понять это предложение, но я воспользовался им и через дней десять ушел из Кривляка. Стояла январская морозная погода, что позволило мне отправиться пешком по замерзшему Енисею.
Сборы были недолги. Набросил на себя романовку, которую получил по почте от своего племянника, попрощался с товарищами соэтапниками и, захватив кусок сырой телятины, полученный мной за свои полмешка картошки, пошел по направлению к Ярцеву. Шел я не меньше 4-5 часов. Несмотря на то, что январские морозы свирепствовали, приходилось обходить полыньи. До Ярцево добрался засветло. Забота о ночлеге разрешилась при помощи моего товарища Н.Я.Гринфельда, с которым я познакомился в Кировской тюрьме и с которым был в одном этапе до Ярцева. Н.Я.Гринфельд, знавший с десяток иностранных языков, был “удостоен” должности возчика навоза в Ярцевском колхозе. Но членом колхоза его не приняли, хотя в общежитие колхоза поместили. В этом общежитии он получил разрешение временно поселить меня рядом с собой на полу с соломенной подстилкой. Я был рад и такому “устройству”.
В районное отделение МГБ я явился на второй день. Начальника не было, но его заместитель мне сказал, что ему известно о данном мне разрешении прибыть в районный центр. Что касается предоставления мне работы, то до приезда начальника он ничего не может сделать,а таковой ожидается не ранее, чем через несколько дней. Это заставило меня просить разрешения самому искать работу в селе. Такое разрешение я получил. Чего-либо по моей профессии и здесь не было, и я нанялся в Ярцевский клуб дровосеком. Это была временная работа, покуда клуб заготовит себе дрова. Меня и это устраивало, ибо я мог заработать хотя бы столько, чтобы хватало на покупку хлеба. О большем я не думал. Итак, после пастушества я стал дровосеком. Одновременно я искал и другую работу, ибо мои физические силы, да и от-сутствие своего инструмента (топора, пилы), не “гармонировали” с таким трудом. Но работать было необходимо, иначе я бы погиб. Мне припомнились слова моего молодого товарища по Колыме Паши Русских, который, бывало, говорил: “Семен, имей в виду, поговорка “от работы кони дохнут” - неверная поговорка, ибо если мы работать не будем, то обязательно сдохнем”. Вот уже сколько лет прошло, но я не забываю эти умные слова молодого уральского рабочего, бывшего вожака комсомольцев, тоже не миновавшего предательских репрессий сталинского режима. Где ты, мой дорогой Паша Русских?
Среди разных случайных работ оказалась одна такая, которая по существу избавила меня от гибели из-за голода. Эта случайная работа обеспечила мне жизнь в течение еще многих лет ссылки, т.е. до конца ее. Поэтому я имею основание считать, что этой случайной работе следует уделить несколько строк в рассказе о моих путях-дорогах. На предыдущих страницах я изложил обстоятельства, приведшие к тому, что в Ярцеве поздней осенью 1949 года мне удалось выточить палец-штырь для конного привода Кривлякского колхоза в мастерской Туруханского леспромхоза. Прошло после этого несколько месяцев, и что-нибудь в марте 1950 года, когда я уже жил в Ярцеве, меня встретил на улице механик леспромхоза и попросил зайти к нему в мастерскую, чтобы посмотреть деталь мотора, которую нужно привести в порядок. Когда я пришел в мастерскую, механик показал мне головку мотора. Головка не могла действовать из-за того, что на одном клапанном седле ее была трещина. Зная,что мне удалось на наличном “оборудовании” этой мастерской выточить палец-штырь, он спросил меня, сумею ли я на том же оборудовании исправить головку мотора. Я внимательно осмотрел трещину и решил, что можно в тех условиях зачеканить ее. Механик (его фамилия Перл, тоже ссыльный из первого этапа) согласился с моим мнением и предоставил в мое распоряжение все хозяйст-во мастерской. К моему удовольствию, мне действительно удалось исправить головку мотора посредством простой слесарной работы, а именно посредством зачеканки трещины заклепками из красной меди. Материал для таких заклепок нашелся в мастерской, а сверление я провел допотопной ручной бормашиной (даже обыкновенной дрели в этой мастерской не было). За сделанную работу мне заплатили столько, что мне и не снилось. В моем положении дровосека, с трудом зарабатывавшего 5-6 рублей в день, полученная мною сумма окрылила меня. Помнится, что наряд мне был выдан на 300 рублей.
За этой удачей последовала еще более важная удача. Доложили директору Туруханского леспромхоза тов.Золотухину, что суденышко, на котором установили исправленную головку мотора, готово к наступающей навигации. В тогдашних условиях для леспромхоза на далеком севере Енисея такая незначительная работа была оценена директором очень высоко. Он распорядился оставить меня работать в мастерской, хотя и не в штате, а для всякой случайной работы. Он исходил из того, что такие работы могут опять появиться. Ведь если бы головка мотора не была приведена в порядок, пришлось бы ждать присылки другой из Красноярска.В лучшем случае это произошло бы не ранее лета. Так или иначе, случайная для меня работа привела к тому, что я оказался устроенным и начал зарабатывать на жизнь.
Туруханская ссылка описана во многих мемуарах. В них изображается жизнь там в царские времена. В мое время заработать там на жизнь было очень трудно, а пособия никакого не давали. Где-то я читал, что в Туруханский край ссылали самых неукротимых, кого хотели надолго обезвредить. Обезвредить тех, которые боролись против царского режима, царю сам бог велел. Но что побудило Сталина-Берия сослать стойких большевиков в этот гибельный край? Ответить на поставленный вопрос можно только так, как я отвечаю, именно - их изменой большевизму. От того, что край этот назван Красноярским, ни ледяной климат, ни пурга, ни гнусная мошкара не перестали оказывать свое гибельное воздействие на людей. Многолетнее пребывание в таких условиях привело к гибели очень многих,но некоторые устояли.Смею утверждать, что, не будь этой случайной работы, безусловно и я бы погиб. Случайная работа привела к тому, что я перестал нуждаться.
Комментарий публикатора
Почему-то в окончательной редакции дядя Сема опустил один из ярких фактов это-го периода его ссылки. Была полоса, еще до того, как нашлась работа в леспромхозе, когда он голодал настолько, что вынужден был каким-то путем (то ли симуляцией, то ли по-настоящему простудившись - не помню, ибо это несущественно) устроиться в местную больницу просто ради того, что в ней пациентов чем-то кормили. Возможно, автор счел неудобным показать, что он “опускался” до такого состояния. Но в более раннем варианте текста этот случай точно упоминался, и, по-моему, образ автора, теряя от этого упоми-нания в какой-то мере героическую однотонность непреклонного “большевика”, стойкого к любым ударам судьбы, становился лишь более ярким и приятным в чисто человеческом плане.
Наступило время, которое я позволю себе назвать для меня благополучным. Это довольно условное определение, но в сравнении со временем поисков работы на берегу Енисея в качестве дровосека оно вполне допустимо. Я получил возможность вспомнить, что “не хлебом единым жив человек”, что можно и почитать в местной библиотеке, повидаться в часы досуга с друзьями по ссылке за стаканом чаю, а то и за рюмкой водки. В условиях туруханской ссылки нередко к этому прибегали. Я даже задумал подзаняться английским языком, благо мой товарищ Н.Я.Гринфельд, которого следует назвать человеком с большой буквы - Человек, владевший английским языком (и не только этим одним), изъявил согласие учить меня. Я выучил сотню английских слов, но так и не закрепил эти познания.
В Ярцевской библиотеке я обнаружил том А.И.Герцена “Былое и думы”. Несмотря на истрепанные страницы, я прочел всю книгу от корки до корки. У меня появилось желание иметь ее у себя дома, чтобы время от времени заглядывать в нее. К моему удовольствию, это мое желание осуществилось. Книгу мне прислали внуки моего брата, жившего тогда в Ташкенте. И теперь, когда я вижу эту книгу в своей библиотеке, сразу вспоминаю ту пору и тысячу раз благодарю Володю Сызранцева и его жену Диночку.
Итак, наступило какое-то просветление в моей жизни, мрачность которой длилась уже около полутора десятков лет. До настоящего света было еще далеко. Полное бесправие и беззаконие проявлялись на каждом шагу. Вспоминается мне, как однажды меня вызвали в канцелярию районного отделения МГБ Это не был день обязательной явки в комендатуру для очередной отметки. После короткого ожидания мне предложили зайти в кабинет начальника. Там я увидел человека, одетого в форму НКВД, сидевшего не за столом начальника, а на диване.На мой вопрос, зачем я понадобился, этот человек предложил мне сесть и тут же приступил к выполнению поручения, по поводу которого он приехал из Красноярска, из краевого управления НКВД. Поручение его оказалось довольно “деликатным”, а именно - дать каждому ссыльному прочитать распоряжение НКВД о том, что, если содержащийся в Ярцевской ссылке отлучится за пределы дозволенной зоны, то получит в наказание ни много ни мало двадцать пять лет каторжной работы. Прочитав это грозное распоряжение, я хотел было уйти к себе на работу, но был остановлен этим “ангелом”, который предложил мне расписаться, что прочитал это “любезное” сообщение. Не помню, выполнил ли я его указание, но отлично помню, что спросил, на каком законе это распоряжение основано. Он мне ответил, что ссыльные не должны задавать вопросы начальству. На этом закончилась “аудиенция”, на которую я был вызван. Вскоре мне стало известно, что такие вызовы получила вся Ярцевская колония ссыльных. Вот один из образцов произвола и беззакония, царивших в те тяжелые годины, пережитые нашей страной.
Другой пример, хотя и не столь общий, но для меня имевший очень важное значение, - это самоуправство нового директора Туруханского леспромхоза, который заменил упомянутого выше Золотухина. Я писал, что Золотухин поступил по-хозяйски и позаботился, чтобы в мастерской леспромхоза был человек, способный производить разный механический ремонт имевшихся суденышек. Его не смущало, что этот человек ссыльный. Новый директор - Соколов - не так отнесся к этому делу. Он предпочел не хозяйское отношение к предприятию - леспромхозу, - но посчитал быть “бдительным” по-сталински и ссыльного Величко-Оксмана попытался отпра-вить на трелевку леса. Соколов своим деспотизмом ко мне хотел еще больше омрачить и без того мрачную мою жизнь в Туруханском крае. Он издал приказ, и, не прояви я свой протест против этого приказа (формально я был вольнонаемным), меня бы отправили в лес. Несмотря на бесправие, которое было уготовано ссыльным сталинскими порядками, ретивому Соколову не удалась его затея, хотя он мог устроить шторм в тихую погоду. Профсоюзный комитет леспромхоза, рассмотрев мое заявление-протест против отправки меня на трелевку леса, заставил директора отменить свой приказ и предложил ему, если токарь в мастерской, каким я числился по приказу Золотухина, не нужен, рассчитать меня по существующему трудовому законодательству. К большому удивлению горе-директора Соколова, районное МГБ не стало на его сторону, и ему пришлось выдать мне двухнедельное пособие, ибо после невыполнения мною его приказа он не хотел терпеть меня в своей мастерской ни одного дня. Этот незначительный эпизод, происшедший на моих путях-дорогах, я отмечаю потому, что в нем наиболее полно осуществился мой протест против беззакония.
Жизнь в Ярцеве потекла для меня так, как для всех моих товарищей. В основном, она может быть охарактеризована как совершенно бесперспективная в смысле каких-либо улучшений, не только в политическом отношении, но и в отношении элементарно-бытовом. Квартировали мы в таких условиях, что, несмотря на высокую плату хозяевам квартир, “свое” жилье отгораживалось от хозяйского всего лишь какой-нибудь занавеской. Мне даже доводилось жить в таком доме, где ночлегом служила крыша курятника, расположенного при входе в квартиру.Это было в зимние месяцы, и проснувшись в такой “постели” я с трудом мог оторвать свою голову, волосы которой примерзали к стенке. Подобными невзгодами наша жизнь не ограничивалась. Главные проблемы были из-за неуверенности в завтрашнем дне. Они меня постигли, ибо после Туруханского леспромхоза прошло немало недель без работы. Как ни экономил я полученное двухнедельное пособие, его нехватило до получения работы на Ярцевском рыбзаводе, который тоже имел свои суденышки. Для ремонта их директор рыбзавода Илья Иванович Богданов приобрел токарный станочек. Если добавить, что на этом предприятии я получил квартиру, за которую должен был платить в десять раз дешевле, чем за частную, то мое бытовое положение оказалось завидным для других т.т. по ссылке.
Это мое “благополучие” с казенной квартирой я записал под влиянием прослушанной по радио постановки “Февральский ветер”. Там рассказывается, как таежная избушка была засыпана снегом до такой степени, что ночевавшие в ней люди утром с большим трудом выбрались из нее. Автор постановки усматривает в этом особое геройство этих людей. Ничего геройского мне не напоминает то, что, вероятно, тоже в февральскую ночь у меня остались ночевать мои т.т. Максимов, Гринфельд и Беляков, а утром мы смогли выбраться из квартиры лишь с помощью лопаты, так как пурга, бушевавшая с вечера, до крыши засыпала снегом весь домик, в котором я имел комнатку.
Глава 32
На Ярцевском рыбзаводе меня застала весть о смерти Сталина. Я начал писать свои страницы не под свежим впечатлением этой радостной для меня вести и поэтому не запечатлел в памяти подробности моих положительных переживаний, но отлично помню, что все мы, ссыльные, и я хочу думать, что все советские люди во всей нашей стране радостно восприняли эту запоздавшую смерть. Один из моих друзей по туруханской ссылке, тов.Имшанецкий (к сожалению, не запомнил его имени и отчества, но хорошо знаю, что он ведал архивом В.Г.Ко-роленко в Полтаве), на вопрос, “знает ли он, что Сталин умер”, ответил: “Не удивительно, что он умер - все люди умирают, а удивительно то, что мы с Вами, тов.Величко, остались в живых после всех мучений, перенесенных нами от этого деспота”. Умный ответ всесторонне образованного человека, каким был тов.Имшанецкий, я запомнил отчетливо и поэтому включил в эти мои воспоминания.
Вздох облегчения вылетел из груди не квасных патриотов, а таких, которые всегда готовы отдать жизнь за страну, созданную В.И.Лениным. К сожалению, известны факты, когда по поводу этой смерти проливались слезы явных мерзавцев или заблуждавшихся людей. Последним следовало бы напомнить, и это вывело бы их из заблуждения, что ровно через 20 дней после смерти Сталина был издан Указ об амнистии (28 марта 1953 г.). Живой Сталин был главным препятствием для торжества советской законности. К сожалению, лишь после его смерти руководители страны и партии отважились на то, чтобы положить конец произволу, в результате которого “гибли многие ни в чем не повинные люди” (в кавычках - слова из материалов ХХII съезда КПСС).
Указ от 28 марта 1953 года, как только он дошел до Ярцева, стал таким документом, что все люди, алчущие свободы, стали его изучать. При тщательном ознакомлении с этим указом я пришел к выводу, что амнистия должна распространиться и на меня. Ведь несмотря на то, что я числился “контриком”, первоначально (в сентябре 1938 г.) особое совещание приговорило меня к пяти годам концлагерного заключения, а то, что меня держали в заключении больше 8 лет и в 1949 году отправили на вечную ссылку, по-моему, не должно было противоречить Указу, предусматривавшему амнистию и для “контриков”, имевших 5-летний “законный” срок. Мои попытки выяснить у местных властей, правильно ли я трактую этот указ, ни к чему не привели, и я решил обратиться с письмом в Министерство юстиции с просьбой прислать мне юридическую справку, т.е. ответить, распространяется ли Указ об амнистии на меня. Казалось бы, на такую просьбу в высшую юридическую инстанцию должен был последовать положительный либо от-рицательный ответ, но от Министерства юстиции я не получил никакого ответа. Велико было мое удивление, когда спустя месяца четыре после обращения в Министерство юстиции с просьбой прислать мне юридическую справку я получил извещение из МГБ, в котором говорилось буквально следующее: “Ваша жалоба получена. Проверено и установлено, что Вы правильно осуждены и правильно водворены в пожизненной ссылке”. Это нежданное письмо подписал какой-то Сучков. Он продолжал лгать в духе всей сталинской лживости. После этого ответа прошло уже много лет, и я теперь не помню силу того возмущения, которое меня охватило. Возмущение вызывала и постыдная трусливость Министерства юстиции, не позволившая самому Министерству ответить на мою просьбу.
Отразить мое отношение к этим фактам я решил на бумаге. В течение 2-3 вечеров я написал очень резкое письмо, но когда оно было закончено, не мог решить, в какой адрес отправить написанное. Такой адрес обнаружился лишь спустя месяца четыре и вот каким образом. 20 января 1954 года в газете “Правда” была напечатана статья прокурора СССР Руденко о том, как важно соблюдение революционной законности. Прочитав эту статью, я решил, что адрес Прокуратуры СССР для написанного мною еще в августе прошлого года как раз тот, который мне нужен. Я сожалею, что не оставил себе копии или черновика своего резкого письма, но помню основное содержание. Оно сводилось к тому, что сообщение Сучкова было ярким примером забвения революционной законности. Чтобы эта моя основная мысль не была голословной, я приложил к письму подлинное сообщение Сучкова. Я даже позволил себе фамилию последнего написать без буквы “в”, а вместо буквы “о” написал букву “а”. Получилось довольно нелестное слово, которым я назвал этого Сучкова. Это, по-моему, было очень кстати. На этот раз я довольно быстро получил ответ из ведомства Руденко. Меня известили, что прокуратура проверяет сообщенное мною и результаты этой проверки сообщит дополнительно. Еще раз подчеркну, что такой ответ последовал после того, как я уже получил за подпи-сью Сучкова сообщение, что мое дело “проверено” и установлена правильность заключения о содержании меня в пожизненной ссылке.Получив ответ на письмо к тов.Руденко, я пришел к выводу, что лед тронулся (это выражение я с удовольствием услышал из уст одного из персо-нажей кинокартины “Чистое небо”).
Хотя мое мнение, что лед тронулся, разделялось многими моими товарищами по ссылке, теплоты в нашем житье-бытье не прибавилось. Регулярная регистрация у коменданта для нас, “контриков”, продолжалась. “Друзья народа”, имевшие до ссылки 5 лет заключения, сразу же после Указа от 28 марта 1953 г. разъехались кто куда хотел. Лишь “контриков” продолжали держать в ссылке. Прошло больше года, когда в июле 1954 г. комендант известил меня, что меня амнистировали, и предложил прийти за документом. Подтвердилась правильность моего мнения об Указе от 28 марта 1953 года.
Когда я пришел за документом,оказалось, что среди полученных документов для амнистирования моих не было. Я ушел к себе на работу и долго не мог избавиться от состояния угнетенности. В течение десяти дней я не являлся в село, куда раньше ходил каждый день. Вышло так, что я сам себя изолировал от своих друзей и товарищей. Наконец, и это испытание моих нервов кончилось. Из Управления МВД по Красноярскому краю я получил справку за № 7164 о том, что амнистирован с 26 июля 1954 г. Мне здесь нет смысла останавливатьcz на правовом различии между амнистией и реабилитацией. Последующие факты сами покажут это различие.
Получив документ об амнистии, я взял на работе расчет, несмотря на то, что директор рыбзавода Илья Иванович Богданов всячески уговаривал меня остаться работать и хлопотать о реабилитации из Ярцева. Хотя я помнил свое горькое разочарование от того,что не послушал совета начальника ОТК Магаданского АРЗа (авторемонтного завода) в феврале 1947 года, однако и сейчас не принял подобный совет, считая, что форсировать реабилитацию можно активнее, если находишься в Москве или, в крайнем случае, вблизи Москвы. 4-го августа я выехал в Москву. Приехав в Москву, я перво-наперво отправился в ЦК КПСС для получения моего партийного билета. Это звучит довольно парадоксально или, вернее, наивно, но именно так я и поступил.
В приемной Комитета партийного контроля при ЦК КПСС меня приняла тов.Демидова. Она очень внимательно и участливо выслушала меня. На ее лице я обнаружил удивление, когда назвал номер своего партбилета, забранного у меня в 1938 году (0217362). Она мне сказала, что просьба о получении партийного билета будет решаться лишь после того, как советские государственные органы примут решение о реабилитации меня. Одна амнистия не позволяет партийным органам решать вопрос о восстановлении в рядах партии. Все это тов.Демидова очень тепло мне разъяснила и тут же дала номер телефона к тов.Чистякову, который, по ее словам, как работник ЦК партии занимался этими вопросами, т.е. вопросами реабилитации через Прокуратуру СССР.
С момента, как я связался с тов.Чистяковым, начинается ходатайство о реабилитации. Должен сказать спасибо тов.Чистякову (кажется,Федору Николаевичу),хотя,к моему сожалению, мне ни разу не довелось увидеться с ним, а лишь говорить по телефону. Но он очень активно меня наставлял и, должно быть, проверял, как продвигается в прокуратуре “мое дело”. Но и при этом оно двигалось несколько месяцев - до мая 1955 г.
Надо было иметь средства для жизни, да и место, где жить. Ни того ни другого у меня не было. На работу не принимали из-за отсутствия прописки в Москве,прописки не мог получить из-за того, что только что был амнистирован. Хотя формально это обстоятельство и не служило препятствием для прописки, но фактически именно по этой причине невозможно было, даже найдя жилье, которое сдается, получить прописку. Началось вращение в заколдованном круге. Чтобы как-то вырваться из него, я уехал в г.Владимир. К этому времени мне посчастливилось. Я выиграл 1000 рублей по облигации займа 1947 года, которую купил, работая в Петушках Владимирской области (см. выше).
Итак, я в том городе, в котором меня вторично в 1949 г. арестовали. Прописать меня прописали, и работу я нашел, хотя и не токарем. а слесарем, но все же как-то устроился. Заработок был очень низким, ибо приходилось выполнять очень примитивные работы. Во Владимире я не имел систематической возможности связываться даже по телефону с тов.Чистяковым, который занимался продвижением моего заявления о реабилитации, и поэтому к ноябрю того же 1954 года вернулся в Москву. Мытарства из-за отсутствия работы, квартиры и прописки возобновились. Я готов был согласиться на любую работу. Ведь объявления о требовании рабочей силы были повсюду. Я пришел туда, где требовался гардеробщик, но не приняли из-за отсутствия прописки. Я отозвался на объявление, что требуется истопник, которому предоставляют квартиру в домоуправлении, но и тут моя “свобода” в результате амнистии оказалась издевкой над настоящей свободой. Жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК) запретила домоуправлению принять меня на работу, исходя из положения “как бы чего не вышло”, если принять такого “контрика”, который, кстати, по трудовой книжке не истопник, а токарь по металлу. Одним словом, вращение заколдованного колеса продолжалось. Оно прервалось лишь тогда, когда я нашел квартиру под Москвой (в Удельной по Казанской ж.д.), в которой меня прописали.
Мои поиски работы стали перспективнее, тем более. что токари требовались по объявлениям нередко. Однажды я прочел, что в мастерской издательства “Правда” требуется токарь по металлу. Я немедленно отправился по указанному адресу. Предприятие газеты “Правда” я считал (и считаю теперь) очень подходящим местом для работы. Ведь газету “Правда” я начал читать еще в 1913 году, и все, что связано с этой газетой, рассматривал (и рассматриваю теперь) как очень близкое мне. Теплая струя обдала меня и после разговора с начальником производства, к которому я явился по пропуску. Он мне рассказал, каков характер работы. Мне предстояло выполнять ремонтные работы. Это как раз соответствовало моему многолетнему опыту. Он убедился в этом, ознакомившись с моей трудовой книжкой, и поэтому на моем заявлении написал просьбу начальнику кадров оформить прием меня на работу.
Казалось, начальнику кадров следовало только оформить, но... начались анкетные дебри. Бондаренко (женщина,начальник кадров) предложила заполнить анкету. Я не поскупился и подробно изложил ответы на многочисленные вопросы, которые, кстати сказать, не так-то уж нужны для приема рядового рабочего. После того, как я прошел медицинский осмотр (к моему удовольствию, оказался годным по здоровью), я явился к Бондаренко. Она повела со мной разговор по поводу моих ответов в анкете о том, где находился с 1939 по 1954 г., и изрекла, что “дыма без огня не бывает”. Я ответил ей на эту тираду, что и дым, и огонь, и все репрессии, ко-торым я подвергся, ни на чем не были основаны. На этом разговор закончился, и она все же предложила мне прийти за постоянным пропуском. Придя к назначенному времени, Бондаренко пропуск мне не дала, а вернула трудовую книжку и сказала, что секретарь парткома мастерских (он занимал какую-то административную должность на этом предприятии) оэнакомился с моей анкетой и отсоветовал начальнику производства принимать меня на работу. “Бдительность” начальника производства, по мнению этого чиновника на партийной работе, оказалась недостаточной.
Еще и теперь, когда прошло уже много лет после описанного факта, при воспоминании о нем меня охватывает дрожь, а тогда я был в таком состоянии, как будто в мой организм влили огромное количество яда. Тогда я не знал, какое название носит этот яд. Теперь, когда я пишу эти строки, название этого яда известно, а именно: “культ личности”, а чьей личности - тоже известно: Сталина.
=====
Комментарий публикатора
Еще бы не “дрожь”! Ведь “изменник” сдох, да и Берию уж убрали. А тут вдруг такое фиаско, да еще в самой кумирне большевистской пропаганды - “Правде”. Это могло бы стать преддверием прозрения дяди Семы, если бы солью его жизни было стремление к истине, а не борьба за “освобождение человечества” и свое несгибаемое “я”. А тут-то вскоре партвожди и подсунут народу химеру “культа”, чтоб тот пенял на свою собственную темноту, а не на их подлость и не на “святое учение”.
======
Этот “прием” на работу привел меня в состояние сильной лихорадки. Ведь исполнителями такого надругательства надо мною были работники издательства моей газеты “Правда”. В такой лихорадке я добрался к брату на квартиру, ибо ехать к себе в Удельную означало очутиться без присмотра, в котором тогда нуждался.
Мои средства, полученные от выигрыша, таяли, если не на повседневные расходы (кормился у брата), то в оплату за пристанище. Там, где меня прописали, надо было вносить по 250 руб. в месяц. Обойтись без этого было никак нельзя по уже приведенным причинам. Кроме этих причин, пристанище для ночлега мне нужно было обязательно, так как милиция стала навещать квартиру брата, и если бы меня обнаружили не прописанным хоть под Москвой, могли бы выслать этапом. Одним словом, уготовленные мне в августе 1938 года пути-дороги продолжались во всей своей горемычной неприглядности.
Глава 33
Со времени моего возвращения из ссылки прошли месяцы, а реабилитация еще не состоялась. Мое хождение в прокуратуру СССР, где, по словам тов.Чистякова, находилось мое “дело”, не давало утешительных результатов. Благо, что заботу о моей реабилитации в какой-то мере взял на себя т.Чистяков. Но и у меня эта забота осталась, а кроме нее. во всей силе не исчезла и забота о трудоустройстве. Каждый мой день проходил в чтении объявлений о требовании рабочей силы. Я отзывался и на требования гардеробщика, и на требования истопника, и, конечно, на требования токарей по металлу. Наниматели, знакомясь с моими документами, тут же отказывали мне в приеме на работу.Кто мотивировал, что из них (документов) не видать, чтоб я когда-нибудь работал гардеробщиком или истопником (так оно и было), а там, где были нужны токари, о причинах отказа умалчивали - мол, “догадайтесь сами”. И я. конечно, догадывался, тем более, что имел предметный урок по мастерской издательства “Правда”.
Трудные, даже очень трудные времена были у меня, несмотря на то, что из тюрем (их было пять), лагерей и вечной ссылки меня по Указу президиума СССР от 28 марта 1953 года освободили. Но освобождение оказалось лишь частичное (амнистия). Я, бывало, думал и спрашивал себя: что делал в своей жизни плохого, которое могло бы быть оправданием постигшим меня мытарствам в своей стране Советов? Отвечая на этот вопрос, невозможно найти в моей жизненной деятельности что-нибудь порочащее меня как советского гражданина. С чистой со-вестью смею это отметить на этих страницах. Где-то я читал, что совесть питает память, т.е. воспоминания. Возможно, что так оно в действительности.
Поиски работы, наконец, увенчались успехом после того, как в одном из объявлений я прочел о требовании токарей Перовскому заводу тяжелого машиностроения. Я отправился туда (тогда Перово не входило в состав Москвы) и, к моему удовольствию, был принят в ремонтно-механический цех. С тех пор (декабрь 1954 г.) я чаще ночевал в моей квартире на ст.Удельной, находящейся на одной линии Казанской ж.д. со ст.Перово. В прокуратуру ходить каждый день уже не представлялось возможным, но в свои выходные дни (по пятницам) я продолжал туда ходить, а также в те дни, когда не работал после ночной смены. Вместо того, чтобы поспать и отдохнуть, я ездил в прокуратуру и связывался по телефону с тов.Чистяковым. Конечно, продвижению дела о моей реабилитации помогли не столько мои посещения канцелярии или приемной Прокуратуры, сколько работник ЦК КПСС тов.Чистяков. Однажды он сказал мне (по телефону), что дело мое находится в Верховном Суде СССР, куда оно послано из Союзной прокуратуры, опротестовавшей решения Особого совещания от сентября 1938 г. и мая 1949 г. Наступало решающее время, когда должен был последовать конец моим мытар-ствам из-за необоснованных решений Особого совещания.
Мытарства бытового порядка продолжали меня угнетать. Они заключались в том, что из своей ежемесячной заработной платы, которая не превышала 600 руб., я должен был платить хозяину дома на ст.Удельной 250 руб. за холодную квартиру. Кроме того, расстояние от этой квартиры (да и от квартиры моего брата в Москве, в которой я иногда ночевал или дневал) до завода было большое, а мне уже совсем на исходе шел 6-ой десяток лет. Мои попытки получить разрешение на поселение в общежитие завода на первых порах еще увеличили мои мытарства.Эти попытки натолкнулись на искусственное препятствие со стороны милиции Ухтомского района. Начальник цеха и зам.директора завода дали свое согласие, чтобы меня поселили в общежитие, но милиция отказывала. Милиция мотивировала свой отказ тем, что, мол, санитарная норма не позволяет поселить еще одного человека, и требовала согласия санитарной инспекции. Санитарная инспекция сообщила в милицию, что не будет возражать, если дирекция завода даст обязательство расширить общежитие. И снова завертелось колесо заколдованного круга, в котором меня бросали из районной санитарной инспекции в районное отделение милиции, а оттуда в дирекцию завода. Это, скорее всего, так бы ничем и не кончилось,не будь моего последнего разговора с зам.директора завода тов.Красноюрченко. Я к нему пришел в мой выходной день с заявлением, в котором изложил, какие препоны возникли в таком простом деле, как поселение меня в заводском общежитии. Он внимательно прочел заявление и, вместо того, чтобы заговорить по существу изложенного в нем, спросил, прочитав мою фамилию, не мой ли родственник работал когда-то на заводе “Баррикады” в Сталинграде. Я ответил, что на заводе “Баррикады” я сам работал в такие-то годы секретарем парторганизации этого завода. После такого ответа тов.Красноюрченко спросил меня, знакома ли мне по Сталинграду фамилия Трегубенков. Я и на этот вопрос ему ответил, что в те же годы человек по фамилии Трегубенков работал на тракторном заводе секретарем парторганизации. Эти мои ответы убедили зам.директора в том, что мне известна была эта фамилия, так как он и сам, по его словам, работал на Сталинградском тракторном каким-то начальником. Прежде чем принять какое-нибудь решение по моему письменному заявлению, тов.Красноюрченко связался по телефону с Трегубенковым, который в это время работал в Министерстве тяжелого машиностроения, в состав которого входил Перовский завод. Не знаю, что говорил ему Трегубенков, но по предложению тов.Красноюрченко я взял трубку и по голосу узнал моего товарища Трегубенкова Кузьму Егоровича. Радостей и волнений у меня было много, в особенности после того, как Кузьма Егорович пригласил меня к себе домой. Я об этом сказал зам.директора Красноюрченко Александру Григорьевичу. Я ушел от него с резолюцией на моем заявлении, адресованной коменданту общежития, о срочном помещении меня в общежитие.
Колесо заколдованного круга из-за квартирных дел, остановилось в тот день, когда я был прописан в общежитие завода. Отпала необходимость выделять больше 1/3 из моего заработка для оплаты квартиры. Однако главная моя забота не закончилась, ибо реабилитация еще не состоялась, хотя уже кончилась первая треть 1955 года. Все мои думы теперь сосредоточились на одном: когда состоится реабилитация? Это мое состояние я назвал однодумием.
Такое положение моих мозгов не могло бы не повлиять на внимание, совершенно обязательное на любой работе, а в особенности на работе токаря по металлу, которая требует точности до сотой части миллиметра. На задней и передней бабках своего станка я написал мелом (мел - необходимый предмет для токаря) две буквы “ВН”. Надпись была размещена так, что все время бросалась в глаза и призывала к вниманию. Эта моя выдумка мне помогала в том смысле, что думал не только о моей реабилитации. Уместна ли здесь поговорка, что “голь на выдумки хитра”? На этот вопрос пусть ответит будущий читатель. Я вспомнил то недоумение или любопытство, которое вызвали эти мои “ВН” у окружавших меня товарищей в цехе. Однажды ко мне подошел мой контрольный мастер тов. Яковлев и задал вопрос: “Семен Андреевич, скажите, что означают буквы “ВН” на Вашем станке?” Я ему ответил приблизительно так же, как у меня здесь уже написано о значении этих букв, и добавил, что это отвлекает меня от главной моей думки, т.е. о том, когда состоится решение Верховного Суда о реабилитации меня. Такое объяснение, должно быть, удовлетворило любопытство контрольного мастера, и он счел нужным сказать, что, видимо, этот призыв к вниманию обеспечивает должное качество деталей, вытачиваемых мною. Начальнику цеха тов.Павлюкову Анатолию Валериановичу и тов.Харламову, секретарю парткома завода, тоже стали известны мои иероглифы “ВН”. Должно быть, зам.директора завода рассказал этим товарищам о нашем с ним разговоре, во время которого выяснилось, что влиятельный работник Министерства тяжелого машиностроения тов.Трегубенков К.Е. является моим другом и товарищем по совместной партийной работе в начале 30-х годов в бывшем Сталинграде. Все это плюс еще какое-то мое выступление на общезаводском собрании, о котором Перовская городская газета писала в положительном тоне, привело к тому, что ко мне во время работы стали часто подходить секретарь парткома и другие, и все интересовались вопросом - как это так получилось, что я был столько лет в тюрьмах, лагерях и ссылках? Что я им мог ответить на такой вопрос помимо того, что таких, как я, репрессированных, было очень много? Мы, репрессированные, знали, что это было результатом беззакония и деспотизма сталинского правления страной. Многие из нерепрессированных тоже знали об этом, но репрессированные сделать ничего не могли, а нерепрессированные молчали. ХХ съезд КПСС, который обо всех этих репрессиях сказал свое правильное слово, был еще впереди.
Реабилитация все еще не состоялась, но дело мое пришло в движение. В этом я убедился по таким признакам, как вызов меня в прокуратуру г.Москвы. Меня вызвали и в Управление Госбезопасности гор.Москвы. Сотрудник этого Управления (фамилия его была Аносов) спросил меня, имею ли я возможность представить ему характеристику на себя от кого-нибудь из моих товарищей, знавших меня до ареста. Я ему ответил утвердительно и принес ему характеристики, данные мне т.Трегубенковым Кузьмой Егоровичем и т.Аншелисом Самуилом Моисеевичем (к сожалению, их обоих теперь уже нет в живых). Несмотря на то, что меня начали вызывать в упомянутые инстанции, я продолжал бывать в Прокуратуре СССР, где все-таки ничего определенного узнать не мог.
После всех этих хождений, 12 мая 1955 года по почте я получил от Прокуратуры СССР сообщение о том, что полностью реабилитирован. На второй день такое же сообщение о реабилитации меня я получил от Верховного Суда СССР.
Эти документы сняли с меня клеймо, по которому я считался уголовным преступником. Так длилось с 1938 года. Оно давило беспощадно и непрерывно. Испить “из реки по имени факт” горькое питье, выдававшееся в период сталинщины за борьбу с выдуманной контрреволюцией, было тяжко. Одно дело рассказывать об этой “реке” своим собеседникам, совсем другое - фиксировать эти факты на бумаге. Последнее дается трудно, ибо надо в каждом случае подобрать соответствующие слова. Находятся такие “умники”, которые непрочь считать сталинские порядки как производные из идей социализма. Эти умники не понимают, что ставят вопрос с ног на голову. В действительности при Сталине игнорировались социалистические идеи. Мне кажется, что как бы много ни написали такие же неумеющие, как я, но тоже безвинно оказавшиеся под тяжким клеймом и плененные в своей собственной стране, это бы только оказало помощь в деле создания правильной истории тяжких лет сталинского произвола.
Глава 34
Для большевиков государственная реабилитация имеет важное значение, но главное для них - это реабилитация партийная. О том, как эта реабилитация происходила, т.е. о том, как произошло восстановление меня в члены КПСС, пойдет речь в этой, новой главе.
13 мая 1955 г. меня вызвали в ЦК КПСС, точнее - в Комиссию Партийного Контроля (КПК). Я был принят работником этой комиссии тов.Барановой. Она завела со мной беседу не о том. что побудило Бауманский райком партии в марте 1938 г. исключить меня, активного большевика с дооктябрьским стажем, а о том, как и почему я был арестован, и почему это меня держали в заключении на три года больше, чем решило Особое совещание.Она также спрашивала меня о причинах второго ареста, в 1949 г. во Владимире. На все эти и подобные вопросы она могла бы и сама ответить, так как уже знала, что эти аресты были незаконны, и по государственной линии я полностью реабилитирован. Одним словом, в ее подходе чувствовался не успокоительный тон. Она довольно недвусмысленно высказывала свое отрицательное мнение о происходивших тогда массовых восстановлениях в ряды партии репрессированных при Сталине. Такое отношение со стороны Барановой насторожило меня и вызвало недоверие к ней. После двух-трех посещений ее для бесед я потребовал, чтобы вопросом о моем восстановлении в партии занялся другой товарищ. Для человека, выбравшегося из такого пленения в собственной стране, в каком я был в течение многих лет, жизнь приобретает особую ценность только после восстановления в рядах своей Партии, и поэтому я пошел на то, чтобы сделать такой отвод.Мое требование было удовлетворено, и вопросом о восстановлении меня занялся зам. председателя КПК тов.Лукьянов. С его стороны я не замечал каких-либо придирок. После нескольких бесед со мною тов.Лукьянов сказал мне. что ему больше не потребуются такие, и свое предложение он передаст КПК. О времени ее заседания мне будет сообщено. Немало времени пришлось ждать этого сообщения.
На заседании, которое слушало мое дело, докладывал тов.Лукьянов. Председательствовал тов.Комаров. После моих ответов на несколько вопросов председателя, в том числе и на вопрос, почему я отвел тов.Баранову, т.Комаров сказал, что о принятом комиссией решении мне станет известно через несколько дней. Я ушел с заседания не в спокойном состоянии. Основанием было то, что как правило о принятии положительного решения тут же сообщали заинтересованному товарищу. Должно быть, т.Комаров, председательствовавший, не доволен был тем, что я отвел его сотрудницу. Так или не так, но мое спокойствие еще не наступило.
Долго, очень долго мне пришлось ждать решения главного вопроса - восстановления меня в ряды КПСС. Целых девятнадцать лет. Я пишу слово целых, ибо это абсолютно точно. 19 августа 1936 года моя верность большевизму была взята под сомнение, а 19 августа 1955 г. меня вызвали в Дзержинский райком г.Москвы для того, чтобы выдать мне партийный билет. Комиссия Партийного Контроля ЦК КПСС на упомянутом заседании постановила восстановить меня в члены КПСС.
Казалось бы, что все, связанное с моими переживаниями на протяжении почти двух десятков лет, завершилось этим решением, но в моей памяти всплыл еще один факт, заслуживающий, на мой взгляд, быть отмеченным. Где-то я читал, что нужно “найти (записать) все, что грозит потеряться с уходом из жизни людей”. Мне через несколько месяцев минет 77 лет. Чтобы этот факт не “потерялся”, я и опишу его так, как он остался в моей памяти.
В Дзержинский райком партии (помещался на Рождественском бульваре) я пришел в назначенный час. Сотрудница учетного отдела в моем присутствии начала заполнять новую учетную карточку для членов КПСС. При этом она обратила свое внимание, что 19 августа 1936 года меня постигла партийная беда, и 19-го же августа, но 1955 года, мне выдается новый партбилет. Обнаружив это совпадение дат, сотрудница спросила меня, почему разбор моего заявления длился так долго. Мне этот вопрос показался, как бы выразиться, наивным, но, подумав, я решил задать ей встречный вопрос: “Неужели Вы не знаете, что произошло с многими членами партии во время начиная с 1936 года или еще немного раньше, когда таких считали врагами народа?” И тут же ответил на ее вопрос: “Меня тоже все это время таким считали”. Надо полагать, что не только эта сотрудница учетного отдела, но и многие работники партийного аппарата повыше рангом не знали настоящей правды. В том-то и заключалось кощунство Сталина и его приспешников, что наглая ложь выдавалась за правду. Чтобы это мое утверждение не звучало как голословное, приведу пару примеров (их можно было бы привести много сотен и даже много тысяч).
Все советским людям известно, что такой член партии большевиков как вожак комсомольцев Саша Косарев после ХХ съезда КПСС был реабилитирован посмертно.Тоже известно, что такой талантливый журналист как Михаил Кольцов также посмертно реабилитирован. Я уж не привожу таких как В.К.Блюхер, П.П.Постышев, М.М.Хатаевич. Ведь сталинцы выдавали их за врагов народа, а на деле это была бессовестная ложь. Забыть об этом мы не имеем права, и не следует быть заодно с теми, кои считают,что “тому тяжко. кто помнит все”. Газета “Правда” опубликовала заметку “Судьба девочки № 5617” (6 мая 1979 г.) В этой заметке справедливо провозглашается клич: “Пусть помнят всё”.
Факт, имевший место при выписке партийного билета, запомнился мне еще и потому, что этот факт был последним на путях-дорогах, на которых я пребывал, будучи в репрессированном положении.
Все мои невзгоды тогда, 19 августа 1955 г., кончились. Я получил возможность вернуться к дорогому мне делу - делу большевика, т.е. вести партийную работу, какую возложит на меня партийная организация. Что так именно я поступил, может подтвердить партийная организация завода “Борец”, в которой нахожусь на партучете с 1955 года по сегодняшний день. Три тура тяжелых, ухабистых дорог, полных горестными воспоминаниями, изложены в этих моих “мемуарах”: 1-й тур с 19/VIII-36 г. по 30/IV-38 г.; 2-й тур с 30/IV-38 г. по 17/I-47 г. и 3-й тур - январь 1947 г. по август 1955 г. Хотя эти туры оказались разные по длительности времени и по насыщенности “содержанием”, но для меня, как ни парадоксально, они оказались одинаковыми по их изнурительности.
Послесловие моим воспоминаниям я включаю в несколько последних строчек.
Логично излагать свои мысли письменно или устно - это, конечно, очень хорошо, но главное, по-моему, заключается в том, чтобы иллюстрировать свои мысли фактами из действительности. Это я сделал, и если когда-нибудь кому-нибудь представится возможность прочесть эти страницы, и он придет к выводу: “Да, это было так, я этому верю”, - то для меня это будет лучшей наградой. Не знаю, доживу ли я до этого времени.
Послесловие публикатора
Дядя Сема прожил, грубо говоря, четыре раза по 19 лет: от рождения 20 сентября 1896 года до революции 1917 г.; от революции до момента, когда она, пожирая, как это принято, своих чад, добралась в 1936 году и до него; 1936-1955 - искупление без покаяния (Цитата: “Я, бывало, думал и спрашивал себя: что делал в своей жизни плохого, которое могло бы быть оправданием постигшим меня мытарствам в своей стране Советов? Отвечая на этот вопрос, невозможно найти в моей жизненной деятельности что-нибудь порочащее меня как советского гражданина.” Автору выпало счастье - не понять того, что он со своей любимой партией разделял великий грех выведения самой этой, “беспорочной” породы людей - советских граждан, включая и барышню из отдела партучета, и т.Баранову из КПК, и нач-кадров т.Бондаренко, одну из миллионов радетелей “бдительности”); с 1955 г. по 14 ноября 1973 года - заслуженное “ветеранство”, окрашенное стойкой верой в свои политические заблуждения и обеспеченное щедрыми подаяниями от смердящего ложью режима. Хорошо пишет А.Гладков в своих “Встречах с Пастернаком” (журнал “Октябрь”, №3 1990 г.): “Старые большевики, сидевшие в лагерях, утешали себя воспоминаниями о Ленине и о молодости партии. Это давало им силу продолжать жить...Другие кутались в цинический фатализм, прятались в волюнтаристскую чешую, в неодарвинистическую философию приспособления. Я говорю о тех, кто еще умел видеть и думать. А большинство просто жило день за днем. Часть из них (самые недалекие) искренне верили во все, что им говорили, остальные делали вид, что верили. Ведь какая-то вера была все-таки нужна и ничуть не меньше, чем холодильник или радиоприемник: без душевного комфорта жить тоже голо и неуютно”.
Дядя Сема, вопреки тому, что пишет, не иллюстрировал, а опровергал фактами свои мысли, большинство коих суть просто узаконенная к использованию ложь для “партийной” оценки фактов,фестончики для их украшения. Из уважения к мемуаристу их хочется считать плодом упрямства, а не скудоумия. Ведь понимал же он в 1973 году, что для партвласти не так уж по шерсти даже его оголтелый большевизм, если в приклеенной к тексту бумажке написал за несколько дней до своей смерти дрожащей рукой: “Дорогие мои, Таню и Тотя! Миша и Наташа! Себе берети 1 экземпляр исправл.редакцией от 72 года. Не вздумайте самоиздательством заняться! В/Дадя”. Однако “главное” по автору, т.е. конкретные “факты” жизни, им запечатленные в своей книге, не подлежат никакому сомнению, так что и сегодня, в 2003 году, он мог бы не сомневаться, что “лучшей награды” для себя заслуживает. Поистине “блаженны нищие духом” !